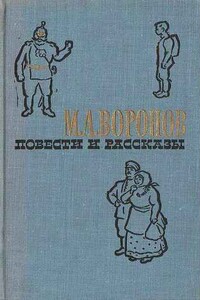Детство и юность | страница 14
II
А вот и время моего отправления в гимназию наступило. Раз поутру отец разбудил меня часов в шесть и велел готовиться к отправлению на приемный экзамен. Я тотчас оделся, взял в руки арифметику и начал перелистывать ее, вовсе не думая читать, потому что голова моя была занята совершенно иным. Фантазия быстро представляла один за другим различные образы, в которые воплощалась моя собственная персона: то являлся маленький гимназистик, бойко отвечающий свой урок и хвалимый учителем; то рослый, плечистый молодец, побивающий целую толпу своих товарищей; то наконец робкое, забитое, чахлое существо, от которого я с негодованием отворачивался, как от странного порождения праздной фантазии… Подержав в руках арифметику, я принялся перелистывать точно таким же образом грамматику, в которой был гораздо слабее. Пересматривая цифры на страницах, я наконец остановился на самой большой из них, думая, что уж тут непременно должно быть что-нибудь важное. Начинаю вчитываться… Раз прочел — не понимаю; в другой — тоже; в третий читаю — та же история. Я уже хотел бросить мудреную книгу, как вдруг подходит отец и спрашивает меня, что я читаю. Я ответил: «Грамматику». — «Ну, вот ты это место долго читаешь, дай я спрошу: знаешь ли?» Отец взял у меня книгу и громогласно произнес: «Говори отсюда: глаголы начинательные…» Я молчал. «Как же ты учил, учил, а ничего не знаешь?» — спросил отец. «Да этого я не учил, это я так только посмотрел». — «А, так-то ты готовишься к экзамену? — протянул отец. — Стань на колени и учи, что нужно», — прибавил он. Я повиновался и со слезами на глазах начал бормотать какое-то давно мне известное правило. Наконец встали мои братья и сестры и начали бегать мимо меня, стараясь узнать, за что я поставлен на колени. Я уткнул лицо в книгу, читая мертвые и сухие правила, которые едва ли могли пойти в голову, и на все расспросы братьев отвечал только энергическим движением головы. Так выстоял я до девяти часов. Отец не велел мне даже давать чаю, потому что, говорил он, сытое брюхо к ученью глухо… Так отравлена была заря моего счастья!
Часов в девять мы отправились: я, старший брат и отец. Дорогой отец делал наставления брату в таком роде: «Ой, берегись, Миша! ой, берегись делать такие шалости! Ты ведь знаешь, что у меня нет пощады… Я тогда тебе полтораста розог дал, теперь двести дам — и в кантонисты! Я тебе, как перед богом, говорю это!» Брат молчал и нервически подергивал губами, вероятно припоминая «полтораста».