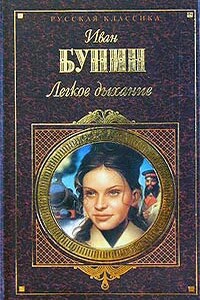На Волге | страница 28
— Посмотрим, что-то вы потом запоете, — продолжала с апломбом Аграфена Филипповна, — не было бы поздно.
— Ради Бога, сжальтесь, оставьте меня, — прошептала Лиза. — Никогда не обращусь к вам с просьбой. Может умру через месяц, иссохну, по вашим словам, а все-таки останусь честной. Ведь у меня, говорят, чахотка, — что ж, вы трупом моим торговать станете? Ведь не стоит того. Так и скажите это Зыбину. А теперь уйдите, уйдите! — вся дрожала она.
— Ну, коли так, прощайте, — вздохнула Аграфена Филипповна и, подобрав крахмальные оборки, величественно выплыла за дверь.
«Себя бы предложила вместо меня, — мелькнуло вдруг у Лизы и самой совестно стало за свою мысль. — О, Лиза, Лиза, до чего ты дошла с своими идеалами!» — горько думала она.
«Не бросить ли? Не успокоиться ли в могиле? Ведь тьма победит… Нам ли сеять, слабым, неумелым! О, бедные, бедные, они гибнут, не понимая, что им нужно и где их спасение! Господи, ведь последние силы им отдаешь и — с разбитым сердцем, с отчаянием, может без веры в их будущее умирать никем не замеченной! А там — погост, одинокая могила и полное забвение… Это ли награда после мук? Но, нет, нет, зачем это я… Милые, родные, униженные, всю себя вам отдам! Берите, терзайте, все стерплю…»
И вся изнеможенная, обессиленная лежала она в своем кресле, почти теряя сознание от мыслей и событий этого дня, искаженное лицо подергивалось отчаяньем, судорожными рыданьями, но слез не было… А в окно смотрела светлая майская ночь, на бледном небе одиноко млела звезда; звонко и страстно заливался соловей; с Волги тянуло прохладой…
VII
Опять Ванька в своем лесу. Снова небо и земля ласкают его, а певуньи заливаются на все голоса в темной дубраве, заставляя забыть его все горести. Но они не знают, что жизнь его согрелась теперь, — он уже не один. Может быть они заревновали бы своего любимца, если бы знали, что кроме их пении для него есть еще один голос, который дал ему много радости. Да, Ванька вдруг почувствовал, что он не бобыль, как сам называл себя, и даже что-то похожее на гордость явилось в нем при этом сознании. До сих пор он думал, что люди злы, что они только насмехаются и бьют слабых, и вдруг оказывается, что есть между ними и любовь, — она воплощалась для него в Лизе. Как он полюбил ее! Часто думал Ванька: «Вот если бы сказала: поди, Ванька, бросься в Волгу, — сейчас бы пошел. Жисть свою отдам за нее, — уж больно она мне полюбилась». Он пас стадо с своим Волчком, а Елизавета Михайловна в его мыслях всегда бывала тут же. Прежде, слушая, как волны бегут, он думал: «Вот им весело, их много, только я один с Волчком». А теперь и ему хорошо, и ему весело. Иногда даже начинал песню затягивать и старался излить в ней все свое чувство. Лес не сердился за это; хоть его тишина и нарушалась детским голосом, но он все так же любил Ваньку. Книга была всегда с ним; много он узнал горя и радости, разбирая буквы, мучаясь, когда что-нибудь не подавалось ему, и торжествуя, когда длинное слово и фраза после долгих усилий складывались верно. Он целый день жил надеждой повидаться вечером с Елизаветой Михайловной, чтобы рассказать о своих занятиях, послушать ее и на нее посмотреть. Она про многое говорила ему, рассказывала о своем прошлом. И он уже любил старушку-няню, ненавидел тех, которые обижали Лизу, и горевал вместе с ней у гроба матери. Часто в ту же ночь, смотря на бледное весеннее небо с одинокими звездами, он снова передумывал все слышанное и многое смущало его. Что-то говорило ему, что она несчастна, что томится и мучается. «За что обижали ее, добрую-то такую? Мучители!» — твердил он, думая о своих мучителях и о Лизиных, и что-то недетское, нехорошее ложилось в его грудь. Она повторяла, что нужно всех любить, прощать всем, но Ванька не мог простить тех, которые сделали ее несчастной. И за себя ему трудно было простить, а за Лизу казалось невозможным.