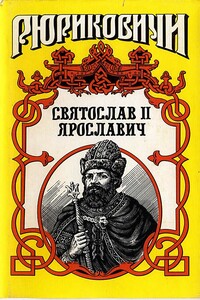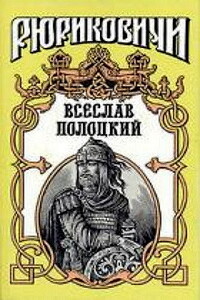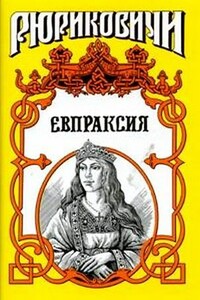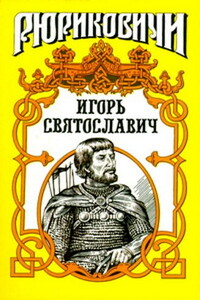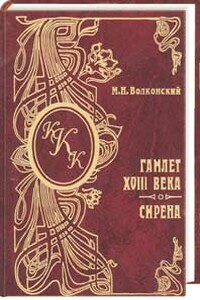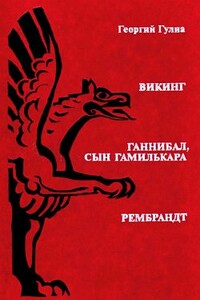Андрей Ярославич | страница 141
Андрей все еще ничего не знал о планах отца. По-прежнему Андрей жил при отце. И Андрею казалось даже, будто отец желает, чтобы само существование Андрея, его любимого сына, сделалось как можно более неприметным. Но Андрей совершенно доверял отцу и, возрастая, стал доверять ему еще более.
«Если отцу для чего-то нужно, чтобы я жил именно так, пусть оно так и будет. Я чувствую, что отец готовит нечто для моей судьбы. Но отец молчит об этом. И я буду молчать о своем таком чувстве».
И монастырские летописцы знали и понимали желание великого князя. От Ледового побоища и до 1247 года примерно, по новому летосчислению, молчат летописи русские об Андрее Ярославиче.
Но зато не молчали сведавшие о намерениях Ярослава хронисты Запада и Балкан — Робер де Клари, преподобный Евстатий, патриарх Великотырновский Иоаким; не молчат и архивы Ватикана, приоткрывая завесу над временем Иннокентия IV.
Конечно, записи — скупы и сухи, фразы порою — слишком коротки; а все сведения зачастую ограничиваются утверждением красоты, необычайного ума и образованности русского принца. И все же попытаемся и мы говорить и рассказать об этом периоде жизни нашего героя, когда он, простившись с детством, шел поступью легкой к юности своей…
Когда отец его вернулся из Орды, Андрею пошел уже четырнадцатый год. Мальчик делался юношей. И хотя по-прежнему оставался он ребячески круглолицым, но в глазах голубых с этим кружением темных крапинок в золотистых солнечных отсветах затаилась тихая, невольная печаль.
Никифор Влеммид, придворный хронист никейского императора Иоанна Дуки Ватаца, так описывает русского принца в своем «Жизнеописании Иоанна Дуки»:
«Лицо у него округлое и светлое, а глаза очаровывают светоносною причудливой пестротою и ясным доброжелательством взгляда».
Впрочем, Никифор Влеммид едва ли мог видеть Андрея Ярославича и скорее всего пишет с чужих слов, но о «пестрых очах» Андреевых упоминает и патриарх Иоаким в своем летописании, не сохранившемся, к сожалению, в полном объеме…
Андрей относился к тому привлекательному русскому типу, который и поныне составляет очарование и своеобразие среди многих иных типов и разновидностей внешнего облика насельников русских земель. В чертах его не были выражены ни византийские, ни варяжские, ни восточные меты. Он был не варяжский, не угро-финский, не восточный, но уже именно русский юноша, красивый русскою красотой и задумчивый глубокой и оттого загадочной русской задумчивостью. По натуре он был застенчив и серьезен и оттого зачастую гляделся даже хмурым, но внезапная улыбка раскрывала доброту его глубокого ума и мягкость и теплоту лучистого взгляда. В сущности, его уже возможно было назвать человеком с Волги, уже не болгарского, хазарского Идыла, но именно русской Волги, в будущем — колыбели стольких российских дарований.