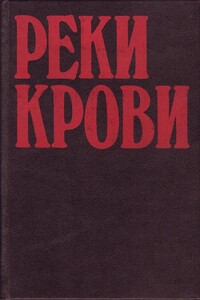Розыск | страница 2
Наконец все шахтеры прошли, и Кондрат Семенович отправился в дежурку, где его уже ждали.
— Ну, что, Мишка, решил, значит, поживиться на государственный счет?
Мишка увел глаза в сторону, забормотал:
— Да ты что, дядя Кондрат?! Вот ей-богу! Прибор, видать, у вас барахлит...
— Да ну?! Ох, Мишка, Мишка! Не будет из тебя толку, коли по этой дорожке пойдешь. А ведь батя твой был честным старателем, не одну тонну породы промыли мы с ним. И чтоб взять чужое — ни-ни! Хошь бы память-то по нем уважал, не пачкал... А ну, дай сюда обушок!
Мишка протянул Савельеву отставленное в сторону кайло, опустил глаза.
Кондрат Семенович взвесил кайло в руке, усмехнулся, достал из кармана носовой платок, тщательно протер торец рукоятки. Глазам открылся небольшой кляп, затертый грязью. Кондрат Семенович складным ножом подцепил кляп, вынул, перевернул кайло над столом. Из рукоятки потек ручеек золотого песка.
— Ну, что скажешь, Мишка?
Парень прижал руки к груди, умоляюще заговорил:
— Ей-богу, в первый раз, дядя Кондрат! Бес попутал... Вот те крест — не буду больше!
— Ну, гляди. Только ради бати твоего покойного не буду пока начальству докладывать, а если еще раз попадешься...
— Да что ты, дядя Кондрат?! Ни в жизнь больше не позарюсь!
— Иди... Да обушок-то забери, чем завтра робить будешь?
Мишка подхватил кайло и мигом выкатился за дверь.
Все это время второй шахтер с интересом наблюдал за действиями старика, прислушивался к разговору. Когда Мишка ушел, он обратился к Савельеву:
— Ну, а меня-то за что задержал, дядя Кондрат?
— Я тебе не дядя, ишь, тоже мне, племянничек выискался! Говори прямо: воруешь?
Шахтер нахмурился, резко бросил:
— Обыскивай!
Кондрат Семенович окинул его внимательным взглядом, буркнул:
— Вижу, что пустой... А все одно уверен: воруешь! Чего это мокрый-то весь?
Шахтер усмехнулся, ответил:
— Не пойман — не вор.
Посетительница вышла из исповедальни, прошла через молельню, толкнула рукой массивную дверь. Отец Андреас смотрел ей вслед. Когда дверь за женщиной захлопнулась, он сел на стул, опустил голову на руки, задумался.
Что же делать ему, слуге господа? Только что прихожанка на исповеди рассказала ему об украденном золоте...
Много прожил на свете ксендз и повидал немало. Но никогда за всю свою жизнь не видел он столько горя, сколько увидел за четыре года войны.
Ксендз вполне мог считать себя подвижником; сюда, в Сибирь, он поехал за своими бывшими прихожанами. Его, Андреаса, никто не принуждал к этому, просто он знал, что и здесь, в занесенной снегами стране, им понадобится слово божье.