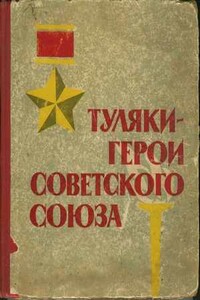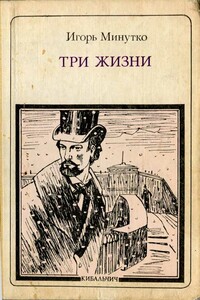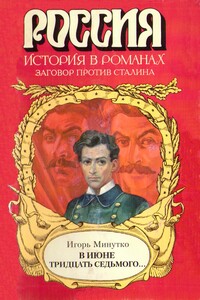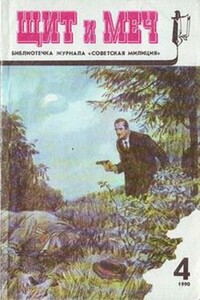Двенадцатый двор | страница 36
Я всмотрелся в его лицо. Обыкновенное лицо: широкие скулы, серьезные, замершие глаза, волосы, зачесанные назад, открывают большой лоб. Черный пиджак, галстук крупным узлом. Очень он серьезный на фотографии, Михаил Брынин...
Которого больше нет среди нас.
Которого убили двумя выстрелами в спину.
На столе лежали какие-то раскрытые учебники со схемами. Тетрадка, тоже раскрытая, и лист исписан торопливым почерком.
Нина проследила за моим взглядом.
— Миша в техникум готовился, — и отвернулась резко. — Не могу! Пойдемте во двор.
Я вспомнил, как мы вернулись с похорон мамы. Я увидел на ее столике тюбик крема для лица со следом пальца на блестящей поверхности и убежал на улицу, к людям, в толпу, чтобы не видеть, не видеть...
Мы сели на скамейку, у завалинки. На дворе было расстелено одеяло, и на нем тихо играли Володя и Клава, а сбоку сидела мать Михаила. Сидела, застыв в неудобной позе, и смотрела перед собой.
— Ну, хорошо, — устало сказала Нина. — По утрам мы с Мишей всегда ходили купаться. А сегодня совсем рано пошли — ему на косьбу торопиться. Искупались. Вода теплая и парок над ней. А воздух прохладный. Вылезешь — сразу зябко. Миша у меня спрашивает: «Замерзла?» «Замерзла», — говорю. «Тогда беги!» — и подтолкнул. Я бежать, он за мной. Ну... Игру затеяли. Поймал. Ко мне... Я его по щекам. В шутку, конечно. Опять бегу. Тут лужок этот, три яблони... Проклятые, проклятые! Чтоб сгореть им от молнии... И в стог сено сбито. Сычово. Опять Миша меня настиг. Прямо не знаю... Не то сказать, не то в кармане подержать. Ладно. Схватил он меня — я дыхнуть не могу. Сильный был мой Мишенька. И повалил на сено. Вы не подумайте ничего такого. Целует только. А мне стыд: еще увидит кто. Я ему: «Перестань. Сыч, небось, рядом бродит, сено ему мнем». «Ничего, — смеется, — сену не станет». Я отталкиваю его. А перед глазами небо, облака и ветка от яблони. Вдруг закрыли мне все, весь вид сапоги — большие, нечищеные. И Сычов голос: «Сено мне приминать. Бесстыжие... Голодранцы». Вскочили мы. Сыч перед нами. И такое лицо злобное, с судорогой, глаза вертучие, так и бегают по нас, шарят. И с вилами он. Намахнулся. «Смотри, Мишка, — шепчет, и аж слюни пошли. — Я тебя упреждал, не искушай». Вижу, Миша испугался, пятится: «Да ты что, Григорий Иванов? Ты что? Мы ж ничего...» А Сыч на нас прет, кричать начал: «Я упреждал! Добро мое глаза ест! Идитя, идитя отсель!» Вижу я — безумство у него в глазах и рука дрожит. Вот сейчас ударит. Ужас меня взял — вздохнуть не могу. Тяну Мишу: «Уйдем, уйдем скорее!» И побежали. А Сыч нам вслед: «Ты меня доведешь... Ты дождешься...» Вот и все. Дома смотрю — на Мише лица нет. Говорит: «Видать, не разминуться нам на этом свете». Не разминулись...