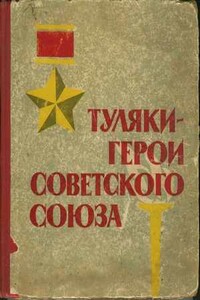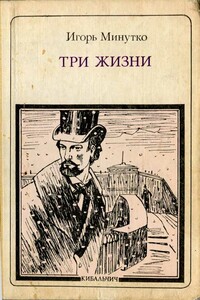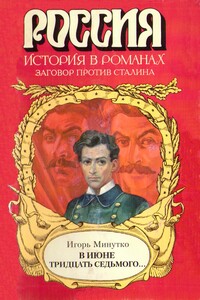Двенадцатый двор | страница 29
Входим на ферму. Автоматы, конечно, наготове. Тишина. Около перевернутого пулемета лежат они, двое. Точно, крестьяне: в штатском, и руки, ну, словом, видно, что с землей дело имели. Один еще пулемет сжимает, другой ничком уткнулся, а ноги разбросал, и такой у него вид, будто бежит мертвым. Телега опрокинутая, и, помню, колеса у нее крутились. На середине двора водоразборная колонка, ведро стоит, прострелено оно в нескольких местах, и лужа из него натекла. Еще — собачья будка. Собака из нее высунулась, а вылезти, залаять не решается. Только рычит, знаете, так глухо.
Глядим: коровы во двор заходят, на нас смотрят вроде с удивлением, мукают жалостно. «Недоеные», — сказал Григорий. И вздохнул.
Мы — в сарай. Большой такой сарай, каменный и тоже под черепицей. Темно со свету-то. А у двери включатель. Я щелкнул. Зажглись три электрические лампочки. Глядим: направо—бетонные стойла, автопоилка; налево — для свиней куток и тоже бетонная стенка, а пол выдвижной, чтобы чистить сподручней было. Григорий попробовал, как выдвигается, задумался чего-то, потом сказал только: «Жили...» В стене дверь обнаружили. Открыли — ступеньки вниз. Спускаемся. Опять включатель. Я — щелк. Лампочка вспыхнула. В погребе мы оказались. Глядим: на полках банки с маслом, со сметаной, очень даже громадные консервные банки и этикетки на них с рисунками, уж сейчас не помню, что там изображено. Окорока висят. Бутыль большая в плетеной корзине, похоже, с вином. «Закусим?» — предлагаю. Григорий так задумчиво: «Потом. Дом надо поглядеть».
Пошли. Все двери открыты. В комнатах беспорядок, вещи раскиданы, недоеденный завтрак на столе. Сейчас уж не помню, что еще там было. А вот одну комнату запомнил: кроватка в ней детская стояла, неприбранная, и на подушке след от головки. А на стене фотография: мужчина в таком строгом черном костюме, молодая женщина в белом платье, как в облаке, а перед ними — мальчик и девочка, чистенькие, кроткие... Словом, чужая и, я вам скажу, непонятная жизнь. И, вот знаете, как-то невозможно представить, что все это в фашистской стране, что на этой земле — концлагеря, душегубки. Стоим с Григорием, смотрим. Смутно на душе. Дом вспоминается, детишки...
И вдруг — шум над нами, возня. И женский крик. Мы с Григорием переглянулись — и наверх. Лестница крутая на чердак вела. А там еще комната. Мансарда по-ихнему. За дверью возня, и женщина по-немецки кричит. Непонятно, конечно. Только имя: «Курт! Курт!»» Мы — в комнату. Смотрим, Петька на кровать немку валит. Уж платье с нее сорвал. Григорий Петьку за пояс и как швырнет об стену. Будто по барабану ударил. «Что, — говорит. А сам — мелкой дрожью. — Под трибунал захотел? И нас за собой? Приказа не читал?» Тихо стало. Петька стоит потный, ушибленную голову потирает, и на лице прямо лютость. А немка, совсем еще молодая, растрепанная, плечи голые руками закрывает. И на нас — вот такими глазами—с ужасом, с мольбой. Наверно, думала, мы все... Здесь Петька к Григорию подскочил: «Защищаешь? А как они наших девчат? Может, мою невесту...» Григорий посмотрел на него долго, так что Петька заегозил, и только сказал: «Так ты что? Фашист?»