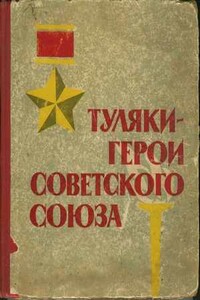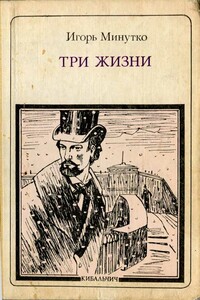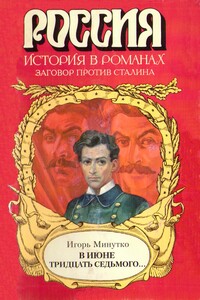Двенадцатый двор | страница 27
За плетнем была привязана наша лошадь, в телеге сидел Сашка, ел мед в сотах, размазывая его вокруг рта, с любопытством смотрел на нас, выплевывал воск в траву.
— Точно, — говорил Трофим Петрович, наливая в большие кружки крепкую, черную заварку. — От наших деревень как ушли в сорок первом, так до самой Германии. Только три раза разлучались — раз меня в госпиталь полуживого, два — Григория. А воевал он хорошо. Как бы вам сказать. Словом, относился к войне, как к работе, серьезно. Правда, замкнутый уж больно. Все, бывало, молчит, молчит. И смотрит кругом так пристально, вроде хмуро.
— Расскажите какой-нибудь эпизод. Ну... Как именно он воевал? — попросил я.
Трофим Петрович задумался.
— Много разных эпизодов было. Ладно... Вот уже в конце войны, в Пруссии. Весна сорок пятого. Здесь в Григории перемена случилась. То все замкнутый, тихий. Молчком да молчком. А границу перешли — Германия. И Григория — ну подменили, да и только. Молчаливым остался. А дремоту его как рукой сняло: суетится, рассматривает кругом, как дом какой брошенный — все больше нам брошенные попадались, — он туда — и глядеть. Губы шевелятся. «Ты что, Гриша?» — спрошу. «Колонка у них, гляди, прямо во дворе, — скажет. — И воду не ведром, а качает. С соображением».
А однажды вот какой случай произошел любопытный. Идем мы по бетонке на Кёнигсберг. Хорошие у них дороги, навек сделаны. Указательные стрелки на столбах. Помню: по-ихнему, по-немецки, добротно так, на эмали, ну, и по-русски на обломке доски кое-как: «До Кёнигсберга 53 км».
Уж всего мы повидали за военные-то годы. Отучились удивляться. А здесь любопытство берет: вот она, Германия, фашистское логово. Может, и Григория интерес взял. Идем, значит. Лес по бокам. И все. Только просеки, чистенькие такие, стрелами в чащу уходят. И кое-где кормушки стоят, а за ними щиты: головы лосей на них изображены да лисиц. Зверей они, немцы, подкармливали. Зверей... А пепел из крематориев на удобрения шел. Словом, идем. А бетонка! Я и передать вам не могу — вавилонское столпотворение. По бокам, в канавах — опрокинутые машины, танки. Кой-какие еще горят. Дым. И поток войск — не протолкнешься: самоходки, грузовики с пехотой, танки, легковушки самых что ни на есть всевозможнейших марок, артиллерия. И, конечно, солдаты. Туча нас. И по бетонке и по обочинам. А навстречу другое движение: немцы колясочки толкают, ручные тележки всяческие. Или на велосипедах. Смотрю я: люди как люди. С детишками, узлы, кастрюли. Старуха собачонку махонькую, словом, мопса, за пазуху пхнула, и он на нас тявкает. Только что в глаза нам не смотрит. И из лагерей народ, в полосатых куртках, в «зебрах» этих проклятых, на ногах что попало. Ну, эти и обнимают и плачут, кой-кто кулак сжатый поднимает — «рот-фронт!». И, понимаете, жарко в груди делается от этих поднятых кулаков. Немцы пленные навстречу совсем в землю уткнулись, а лица веселые — уж не убьют. И гвалт такой над бетонкой — оглохнешь: моторы ревут, ноги топают, песни, немка какая-то кричит: «Пауль! Пауль!..»