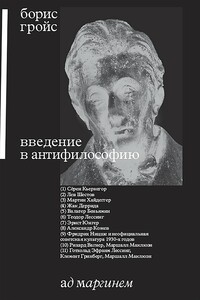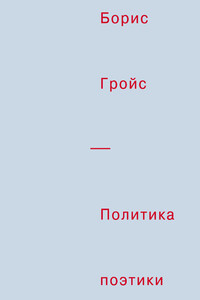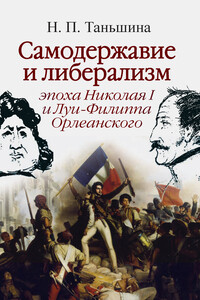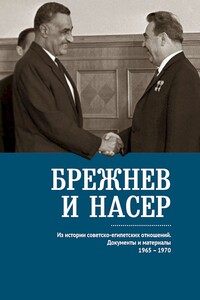Коммунистический постскриптум | страница 42
Впрочем, уже Гегель считал постоянную смену мыслей определяющей характеристикой мышления. Поэтому он крайне скептически относился к требованию хранить верность собственным суждениям и идеям. В самом деле, если кто-то высказывает определенное политическое суждение, последовательно его отстаивает и не признает другого, противоположного суждения, это еще отнюдь не значит, что он всегда ему верен. Ведь иногда ему приходится думать и о других вещах – например, о еде, о сне и прочих повседневных занятиях. Таким образом, он мыслит другое своего политического суждения, антитезис, контекст, внутри которого это суждение артикулируется. Но тем самым он признает и некий статус-кво, который в свою очередь имеет политическое измерение – и, вполне возможно, что оно фактически противоречит суждению, верность которому он пытается сохранить. Мышление и есть не что иное как постоянная смена мыслей у нас «в голове». Недаром Гегель говорит, что революционная гильотина есть подлинное отражение процесса мышления, поскольку она позволяет отрубать головы примерно с той же быстротой, с какой сменяют друг друга мысли в этих головах.[22] Гегель пытался подчинить этот процесс смены мыслей определенной, а именно диалектической, логике, однако можно согласиться с Кьеркегором, считавшим эту логику, в конечном счете, произвольной. Не существует простого и однозначного критерия, позволяющего утверждать, что некий проект, идеология или религия «себя изжили» или «исторически устарели». Мы пойманы в силки парадокса и не можем предоставить свое освобождение простому ходу времени. Метанойя является безосновательным, чисто перформативным, революционным актом.
Для Гегеля мир как он есть был продуктом диалектического перехода, повторяющейся метанойи абсолютного духа. Однако в какой-то момент постоянное самоотречение абсолютного духа само должно было стать абсолютным и принудить его к покою, к приостановке процесса диалектического самоотрицания. С точки зрения Гегеля, действительность как таковая внедуховна – она есть то, что история духа оставляет после себя. А если духа в ней уже нет, то и диалектика подлежит снятию: отношения стабилизируются. Напротив, с точки зрения диалектического материализма противоречие заключено в самих вещах, в телах, в материи. Даже тело, покинутое душой, не прекращает вести обмен со своим окружением – просто теперь этот обмен протекает в другой форме. Количество здесь переходит в качество, но в целом диалектический процесс не прекращается. Там, где раньше была душа, теперь появляется труп. Но различие между ними, если мыслить его диалектически, не так велико, как может показаться на первый взгляд.