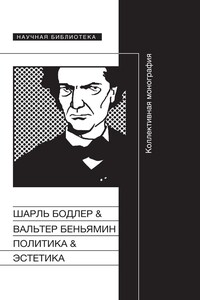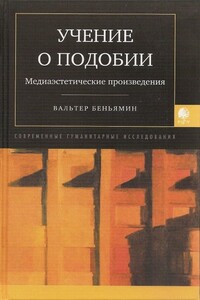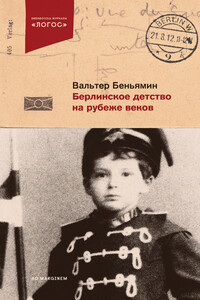Краткая история фотографии | страница 48
Теперь понятно, почему в его текстах мы то и дело натыкаемся на употребление термина «оригинал», относящийся равным образом и к явлением внешней реальности, и к искусству, – ведь и то и другое суть «натуральные ресурсы», на которые техническое репродуцирование направлено также равным образом. Именно оно переводит их в новый, но при этом тоже однородный порядок уже искусственных вещей-образов-репродукций. «Развитие производительных сил… эмансипировало в XIX веке творческую деятельность от искусства»[47]. Отныне искусство (традиционная практика создания «оригиналов») сливается с природой, передавая свою роль техническому репродуцированию, которое, сделавшись теперь самостоятельной отраслью, перемещается на более высокий, творческий – человеческий, общественный – уровень. И если прежний художник соблюдает «в своей работе естественную дистанцию по отношению к реальности», то сменивший его теперь «оператор <…> глубоко вторгается в ткань реальности. Картина художника целостна, картина оператора расчленена на множество фрагментов, которые затем объединяются по новому закону»[48]. И это уже прямо по Марксу: художник «объяснял» мир, оператор решительно меняет его.
Беньямин выделяет три стадии превращения искусства в репродукцию. Первая приходится на время сразу после изобретения фотографии, гораздо более технически совершенной, миметически точной, нежели мануграфия (рукотворное изображение). Эта стадия символизирует для искусства начало его конца или, по крайней мере, самим фактом появления репродукционного медиума изменяет «и весь характер искусства»[49]. Вторая соответствует трансформации искусства (при посредстве фотографии, а конкретно – благодаря фотографированию художественного произведения) в репродукцию искусства, в результате чего искусство-репродукция, счастливо освобождаясь от груза оригинальности (подлинности), становится потенциально доступным каждому везде и всегда. Теперь искусство-репродукция «