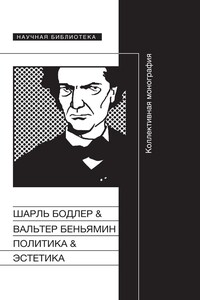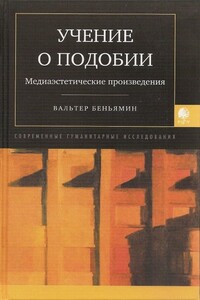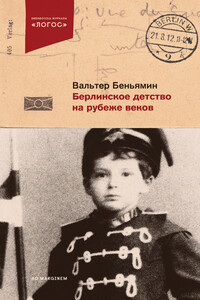Франц Кафка | страница 33
Макс Брод: Франц Кафка
>Биография. Прага, 1937
Книга отмечена фундаментальным противоречием, зияющим между главным тезисом автора с одной стороны – и его личным отношением к Кафке с другой. При этом последнее в какой-то мере способно дискредитировать первое, не говоря уж о сомнениях, которые оно и без того вызывает. Это тезис о том, что Кафка находился на пути к святости (с. 650). Отношение биографа к этому тезису есть отношение безоговорочной умиленности. Отсутствие сколько-нибудь критической дистанции – главный признак этого отношения.
То, что такое отношение к такому предмету оказалось вообще возможным, изначально лишает книгу всякого авторитета. Как это реализуется, иллюстрирует, например (с. 127), речевой оборот «наш Франц», при посредстве которого читателю предлагается взглянуть на фото Кафки. Интимность в отношении святых имеет свою историко-религиозную сигнатуру – сигнатуру пиетизма. Как биограф Брод выступает с пиетистской позиции, отмеченной демонстративной интимностью – иными словами, с самой неуважительной позиции, какую только можно себе вообразить.
К этим несообразностям в органике произведения до бавляются некоторые печальные обыкновения, приобретенные автором за годы профессиональной деятельности. Во всяком случае, следы журналистской неряшливости трудно не заметить даже в формулировке главного авторского тезиса: «Категория святости… – вообще единственная верная категория, с помощью которой можно рассматривать жизнь и творчество Кафки» (с. 65). Надо ли пояснять, что святость – это вообще некий предписанный, предустановленный порядок жизни, к которому творчество ни при каких обстоятельствах принадлежать не может? И надо ли специально указывать на то, что всякое употребление слова «святость» вне традиционно обоснованного религиозного установления есть не более чем беллетристическая банальность?