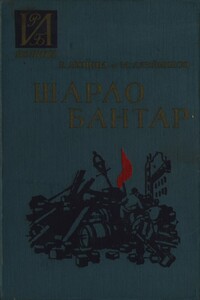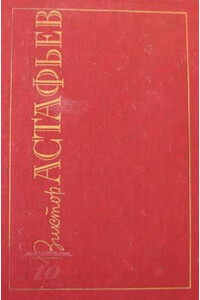Москва в огне. Повесть о былом | страница 5
Только задиристый мужичонка никак не мог развеселиться, обуреваемый все той же мыслью о земле, о бедности, о неправде.
— Где она, правда божия?! — восклицал он, когда гармонь замолкла и шум затих. — Куда нам идти? Кому жалиться, нечистая сила?
— Угомонись, кум, — все так же лениво урезонивал кряжистый мужик маленького. — Нет правды на свете, кум, одна кривда гуляет.
Маленький опять вскочил на ноги и, размахивая коротенькими руками, зашумел:
— Быть того не может! Коли мы рассердимся, мужики тоись, всю землю на дыбы поставим, а правду-матку вытянем!
— А ты скорей серчай, — посоветовал рыжий молодой человек с верхней полки, — а то поздно будет…
Спор и перебранка продолжались. На остановках пассажиры сменяли друг друга, одни уходили, другие приходили и занимали их места.
За окнами спустилась ночь. В фонаре над дверью проводник зажег толстую свечу. В вагоне стало еще более сумрачно, глухо.
А молодой человек с неослабевающим интересом продолжал наблюдать сверху за сумятицей и спорами пассажиров. Ему, видимо, очень нравилось, что народ так открыто выражал свое недовольство, что люди перестали бояться друг друга и вражеского уха, что слово «свобода» стало легальным словом. А давно ли, кажется, на Руси царило зловещее молчание, давно ли слышался только звон цепей да свист пуль и нагаек?..
Вагоны дергались на стыках рельсов, тормоза шумно громыхали, тараторили колеса.
Пассажиры постепенно затихали, укладывались, кто как мог и где мог. Все реже вспыхивали споры. Угомонился наконец и задиристый мужичонка: привалившись боком к широкой груди кума, он тоненько посвистывал носом и пошевеливал пальцами в заплатанных варежках. Пьяненький гармонист уронил голову на гармонь и так могуче храпел, что все вокруг содрогалось. Картуз задремавшего рабочего свалился на пол. Свеча в фонаре давно сгорела, обтаяла и погасла…
Только рыжий молодой человек на верхней полке всю ночь не смыкал глаз. Уже начинало светать, а он все ворочался с боку на бок, нетерпеливо поглядывал в заснеженное окно, тихонько чертыхался. Что ж так беспокоило его?
Для тех, кто читал повесть «На рассвете», — это старый знакомый. Это тот самый рыжий Пашка, которого он видел в селе Селитренном, потом в Астрахани, в Баку, в Тифлисе, по дорогам Средней Азии и, наконец, в Карской крепости, в числе тридцати двух бакинских большевиков. За эти годы, если посмотреть на него со стороны, он заметно возмужал, обветрился, лицо чуть-чуть похудело, глаза потеряли выражение полудетской наивности, стали суровее, острее. Видимо, опыт подполья не пропал даром. К тому же на верхней губе молодого человека появился золотой пушок, доставлявший ему не малое удовольствие: все-таки мужчина как-никак! Только рыжая шевелюра да обильный урожай веснушек на лице остались прежними. И по-прежнему, к великой моей досаде, я выглядел зеленым юнцом, хотя через какой-нибудь месяц или полтора мне исполнятся все девятнадцать лет!