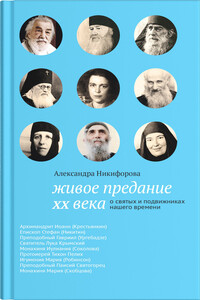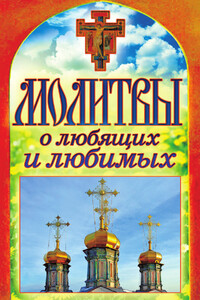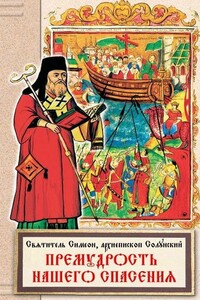Хранители веры. О жизни Церкви в советское время | страница 40
– Колоритнейших личностей перед моими очами прошло немало, сосредоточусь только на некоторых.
С 1947 года инспектором Московской духовной семинарии и академии был архимандрит Вениамин (Милов) [59] . Многих ученых мужей за время учебы довелось мне слышать, он же читал свой курс иначе: не только содержанием, но и самим тембром голоса буквально к себе приковывал, читал он совершенно необыкновенно. Передать это сложно, просто шла беседа от сердца к сердцу, было тихое журчание речи, в которой – да, мысль выражалась, но мысль эта насквозь была одухотворенной. Это был язык любви. Слова ложились прямо на сердце, оторваться было нельзя. По окончании лекции не радость от звонка посещала, а грусть. Общался он со студентами не поднимая глаз: длинные ресницы у него всегда были опущены. Я никогда не видел его глаз. Весь его облик свидетельствовал о том, что он – сама скромность. Я тогда же весьма заинтересовался его личностью, когда же больше о нем узнал, был поражен – нет, иначе сущность должно выразить: был потрясен до основания узнанным о нем.
Будучи инспектором академии, он был еще и насельником Троице-Сергиевой Лавры. И конечно же, нес свое монашеское послушание по монастырю и не формально к этому относился, а исполнял послушание от и до. Ни от чего не отказывался, все нес, все исполнял. Но и в самой семинарии и академии помимо лекций он как инспектор еще и за учебную, и за хозяйственную часть ответственность нес. Однако самое удивительное, если не сказать потрясающее, впереди.
В давние времена, помнится, еще в Ташкенте, некто со знанием дела спросил меня: «Кто, по-твоему, самый злейший враг для советской власти?» Не рассчитывая на мой правильный ответ, вопрошавший сам же и ответил: «Святой». Много времени спустя, по зрелом размышлении, я понял, что все так именно и обстоит. Пример с архимандритом Вениамином полностью подтверждает ответ. По окончании насыщенного трудового дня, как правило, к отцу Вениамину в келью приходили следователи НКВД (или его вызывали), обычно на целую ночь. Его расспрашивали, с ним беседовали, ему угрожали, и все с одной целью – не давать ему спать. Под утро его отпускали. Энкавэдэшники менялись. Удавалось ли ему в оставшиеся минуты поспать, этого я не знаю. Истязание такое совершалось из ночи в ночь, из недели в неделю, из месяца в месяц.
Открытие такое для меня было сущим потрясением. Совершалось это в бытность его инспектором постоянно, пока, наконец, в феврале 1949 года его не вызвали и больше не отпустили. Выслали в Казахстан, где он пробыл до 1954 года. Когда он вернулся, Патриарх Алексий I в феврале 1955 года облек его епископским саном и определил на Саратовскую кафедру. В ответной речи при вручении жезла он пророчески предрек: «Мне недолго осталось пребывать в этом мире, епископство мне обещано под конец жизни».