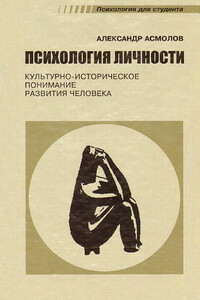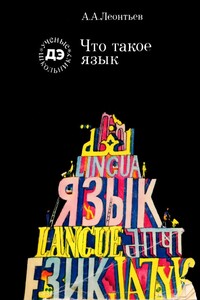Основы психолингвистики | страница 25
Два других недостатка осгудовской психолингвистики остались непреодоленными. Изменилось представление о степени сложности речевых реакций: но осталась незыблемой сама идея реактивности (особенно хорошо это видно в известной книге Дж.Миллера, Е.Галантера, К.Прибрама «Планы и структура поведения» (1965); см.также Леонтьев , 1974. А индивидуализм осгудовской психолингвистики Н.Хомский и Дж.Миллер еще больше углубили – одним из важнейших положений психолингвистики второго поколения стала идея универсальных врожденных правил оперирования языком, сформулированная на основе тех бесспорных фактов, что, с одной стороны, эти правила не содержатся в эксплицитной форме в языковом материале, а с другой, что любой ребенок может одинаково свободно овладеть (как родным) языком любой структуры. Таким образом, процесс овладения языком свелся к взаимодействию этих врожденных правил или умений и усваиваемого языкового материала или, если угодно, к актуализации этих врожденных правил.
Психолингвистика Н.Хомского весьма уязвима и в других отношениях. Она ограничивается проблемами восприятия и порождения предложения – лингвистической единицы, определяемой через грамматику, семантику и сегментную фонетику и принципиально изолируемой от целостного осмысленного текста. Она рассматривает именно предложение (sentence), а не высказывание (utterance), т.е. игнорируется реальное соотношение различных языковых уровней (и невербальных средств) в формировании и восприятии той или иной коммуникативной единицы. Априорно предполагается, что основой порождения и восприятия высказывания всегда является его морфосинтаксическая структура. Далее, предложение рассматривается вне реальной ситуации общения. Игнорируется место речи, а также ее восприятия, в системе психической деятельности человека – речь и ее восприятие рассматриваются как автономные, самоценные процессы. Игнорируются индивидуальные, в частности личностно обусловленные, особенности восприятия и производства речи: сама идея индивидуальных стратегий оперирования с языком отвергается с порога.
Все эти недостатки модели Н.Хомского, в особенности ее «лингвистичность», вызвали критику со стороны тех психолингвистов, кто не попал под его влияние, причем интересно, что направления такой критики в основном совпали ( Rommetveit , 1968; Леонтьев , 1969 а , и др.). Но особенно существенно, что среди последователей Н.Хомского и Дж.Миллера с самого начала возникла тенденция «подправить» психолингвистику второго поколения, сделать ее более психологической, привести в соответствие с концептуальной системой общей психологии. Эта тенденция особенно ярко проявилась в работах молодых (тогда!) психологов так называемой Гарвардской школы, прямых учеников и сотрудников Джорджа Миллера: Т.Бивера, М.Гарретт, Д.Слобина и др. Их позиция достаточно четко отразилась, например, в переведенной на русский язык книге Д.Слобина «Психолингвистика», в оригинале изданной в 1971 году (