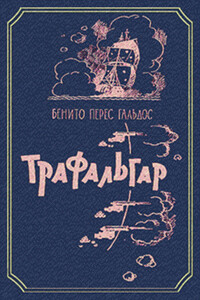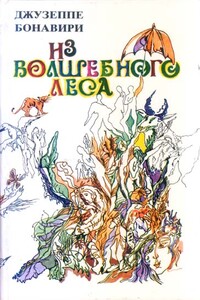Двор Карла IV. Сарагоса | страница 48
Пепита хотела было ответить на насмешку, но слова замерли у нее на устах, и она густо покраснела.
— Мы пришли сюда развлекаться, — напомнила Лесбия.
— О, легкомысленная младость! — воскликнул маркиз, осушив порядочный бокал вина. У нее на уме лишь развлечения, когда вся Европа…
— Опять он со своей Европой!
— Только Пепилья понимает всю серьезность положения. Да, вы, прелестная волшебница, принадлежите, как и я, к тем немногим, кого не удивит катастрофа.
— Да объясните же наконец, что за намеки!
— Ради бога и всех святых! — воскликнул дипломат с видом мученика. — Умоляю, не просите, не заставляйте меня высказать тайну, которую я обязан хранить. Да, я человек осторожный, и все же мне становится страшно: если вы будете еще терзать меня, я могу проговориться — одна фраза, одно слово, и… Богом заклинаю, молчите! Дружеские чувства имеют надо мной неотразимую власть, и я не хочу, чтобы они вынудили меня забыть о моей чести, о славном прошлом.
— Что ж, тогда мы помолчим, сеньор маркиз, — сказал Майкес, зная, что самый верный способ уязвить старика — это ни о чем его не спрашивать.
Наступила тишина. Маркиз, которому не удалось блеснуть красноречием, с усердием принялся за ужин и вступил в дипломатические переговоры с каплуном, избрав своим посредником отличный цикориевый салат. Одновременно он без устали любезничал с моей хозяйкой, любовь, а может быть, вино, зажгла огонек в его тусклых глазах, они мутно поблескивали из-под морщинистых век и густых седых бровей, всегда напряженно сдвинутых, словно маркиз читал старинные рукописные документы. Ла Гонсалес теперь молчала, она была поглощена наблюдением за влюбленной парочкой, хоть и не глядела на них. Амаранта же, которую, видимо, волновали совсем иные мысли, не смотрела ни на Исидоро, ни на Лесбию, ни на мою хозяйку, ни на своего дядю. Она — решусь ли сказать! — смотрела… на меня. Но это заслуживает отдельной главы, и посему я пока ставлю точку, чтобы собраться с силами.
VII
Да, да, — поверите ли? — она смотрела на меня, и как смотрела! Причину столь упорного любопытства я не мог понять и, сказать по чести, до сих пор пребываю в сомнении. Только представьте себе — прислуживаю я, как водится, за столом и вдруг замечаю, что эта прелестная дама, предмет самого пылкого моего восхищения, устремила на меня свои дивные очи, прекраснее всех очей, когда-либо глядевших на свет божий с тех пор, как мир стоит. Я менялся в лице, кровь то приливала к моим щекам, окрашивая их густым румянцем, то вся собиралась в моем трепещущем сердце, и я становился бледен, как мертвец. Уж не помню, сколько тарелок разбил я в тот вечер. Руки у меня тряслись, я прислуживал отвратительно, путал порядок блюд и подавал соль, когда у меня просили сахару.