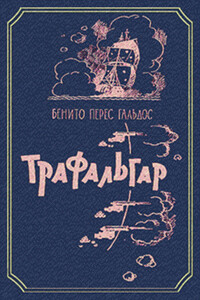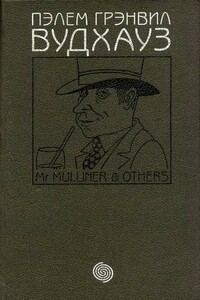Двор Карла IV. Сарагоса | страница 22
Надо однако, сказать, что эта же самая публика, по внешности столь грубая, обнаруживала большую чувствительность, рыдая вместе с Ритой Луной в драме Коцебу «Мизантропия и раскаяние» или разделяя возвышенный ужас славного Исидоро в трагедии «Орест». Несомненно и то, что нигде в мире публика не умела так беспощадно высмеять писателей и поэтов, пришедшихся ей не не вкусу. Равно готовая веселиться и плакать, она, как малое дитя, поддавалась внушениям сцены. Если автор не умел снискать ее благосклонность, виноват был он сам.
Театральный зал, если взглянуть на него сверху, представлял невообразимо унылое зрелище. Тусклые масляные лампы, которые служитель зажигал, перепрыгивая со скамьи на скамью, едва мерцали в полутьме: при их скудном свете нельзя было даже через подзорную трубу как следует рассмотреть выцветшие фигуры на закопченном потолке, где выделывал антраша красавчик Аполлон в алых сапожках и с лирой в руке. А сколько хлопот доставляло зажигание главной люстры, которую, по завершении сей сложной процедуры, медленно подтягивали кверху при помощи блока под громкие возгласы райка, не упускавшего случал подурачиться и пошуметь.
В зале тоже была перегородка — внушительное бревно, прознанное «плахой», которое отделяло кресла первых рядов от собственно партера. Ложи походили на тесные, темные курятники — там располагалась чистая публика, и так как дамы, по давнему обычаю вешали свои шали и накидки на барьер, ярусы в целом имели вид декорации, изображающей улицу Почты или Суконные ряды.
Театральный устав, изданный в 1803 году, должен был навести в театрах порядок, однако никто не трудился ему следовать, и лишь с развитием культуры и просвещенности публика научилась нести себя более пристойно. Вспоминаю, что еще много лет после описываемого мною времени зрители продолжали судить в шляпах, хотя в одном из пунктов устава было ясно сказано: «Зрителям в ложах всех ярусов, без какого-либо исключения, возбраняется сидеть в шляпах, шапках и прочих головных уборах, однако дозволяется при желании не снимать плащей и пальто».
В ожидании, пока поднимется занавес, поэт называл мне одно за другим свои творения — а было их несметное множество во всех жанрах: драматическом, комическом, элегическом, эпиграмматическом, буколическом, сентиментальном и смешанном. Тут же он изложил мне содержание трех-четырех трагедий, которые дожидались лишь протекции некоего мецената, чтобы быть поставленными на сцене. И словно я недостаточно был наказан за мои грехи выслушиванием этого вздора, он обрушил на меня еще несколько сонетов, которые хоть и не вполне были равны знаменитому: «О, светоч дивный, от брегов Дуная до Амазонки ты сияешь гордо», — однако походили на него, как одна тыква на другую.