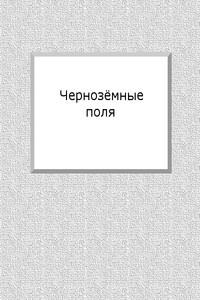Романист-психиатр | страница 7
Перед вами происходит не художественное правдивое изображение целого человека, как он есть, с его достоинствами и недостатками, в его добре и зле, — нет, это какое-то надоедливое, придирчивое и безжалостное помыкание слабым ближним, который не успел утаить от вас своих пороков, сквозь доверчивость которого вы подглядели каждую черную ниточку у него внутри и которого вы с жадностью радостного открытия хватаете именно за эти черные нитки его, грубо залезаете своими бесцеремонными кулаками в его внутренности и тащите, комкаете, рвете оттуда все, что зацепили в этот кулак, и не хотите расстаться с своею жертвою, а волочите ее без сострадания по улице, всем показывая черноту разоблаченного грешника, всех громко сзывая к себе, заливаясь злорадным, ликующим хохотом, что вот, мол, на какой пьедестал себя сажал человек, а какая оказалась дрянь, гляньте только, прохожие, какая дрянь, и плюйте на него вместе со мною, и радуйтесь вместе со мною, что дрянь, дрянь, и ничего больше!..
Одним словом, автор проделывает над своим героем, Степаном Трофимычем, именно тот безобразно несправедливый, беспричинно ожесточенный суд, который так возмущает его в Липутиных, Лямшиных, Петрах Степанычах и других „бесах“ нового времени, производящих над жизнью людей свои мясницкие операции.
Удивительно, что все эти едкие осмеяния излишней мнительности болтающего либерализма 40-х годов, его детские игры в политические опасности и политические преследование слышатся из уст человека, который чуть не 10 лет выстрадал именно за эти „письма к кому-то о чем-то“, за эти смешные „о_б_щ_е_с_т_в_а в 1_3 ч_е_л_о_в_е_к, потрясшие здания“.
Кому другому, но уж во всяком случае не Достоевскому пристало потешаться над напрасною подозрительностью русского „высшего либерализма“, в котором, как он знает, далеко не всегда можно позировать безопасно.
Неужели же вся история либерализма нашего, как бы слаб и смешон ни был он во многих своих проявлениях, не вдохновила страдальца этого либерализма ни на что другое, кроме сочинительства чудовищной карикатуры на него? Ибо если Степан Трофимыч Верховенский, сам по себе, во многих отношениях и живой человек, то Степан Трофимыч, как типический представитель „чистоплотного либерализма“, есть возмутительный, грязный памфлет на него, и ничего более.
Мотивы, которые вывели на сцену Степана Трофимыча, не новость в нашей литературе. Тургенев гораздо прежде Достоевского оборвал Икаровы крылья нашего идеалиста-эстетика 40-х годов, выставив своего Рудина, тоже праздного болтуна, тоже человека сомнительных поступков и возвышенной проповеди. Но какая все-таки громадная разница между жизненностью портретов Рудина и Степана Трофимыча, и какая еще большая разница в резкости и несправедливости оценки своих героев у обоих авторов. Тургенев, не скрывая, обнажает слабости своего Рудина и не скрывает своего собственного несочувственного взгляда на эти слабости; но Тургенев — прав он или нет в своем несочувствии — все-таки рисует полного и подлинного человека, за которым нельзя не признать известной силы, известных заслуг, рядом с очевидными его грехами; Рудин Тургенева возбуждает много сожалений и досады, но он вместе с тем близок и даже несколько дорог сердцу читателя. Читатель признает в нем в значительной степени себя самого, свои национальные грехи и грехи своего века, своего сословия и в то же время много доброго, что свойственно русскому человеку, русскому дворянину, русскому гуманисту… Словом, он верит в Рудина, он относится к нему, как к правде, как к живому, оттого Рудин сразу сделался и надолго останется художественным типом нашей литературы, рядом с Онегиным, Обломовым и другими; оттого Рудин сделался в свое время нарицательным именем.