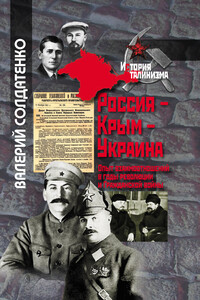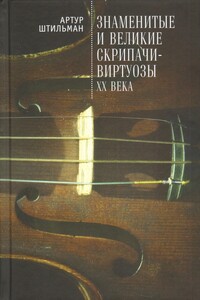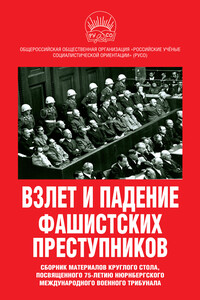Из Черниговской губернии | страница 28
5. Хороводная.
Подъ эту пѣсню играющіе бѣгаютъ попарно по улицѣ; передняя пара дѣлаетъ ворота: возьмутся рука за руку, и въ эти ворота всѣ пробѣгаютъ; поэтому этотъ хороводъ называютъ «бѣгучимъ», а по здѣшнему — бягучихъ.
6. Хороводная.
Напѣвы пѣсенъ есть и малороссійскіе, есть и великорусскіе. С. А. Мефедовъ для меня записалъ нѣсколько напѣвовъ.
— Не осталось и какихъ памятниковъ владычества Литвы въ Погарѣ? спрашивалъ я здѣсь одного горожанина.
— Николаевская церковь была сперва костеломъ, а теперь она передѣлана на православную.
— Остались въ этой церкви какія нибудь иконы, образа изъ стараго костела?
— Нѣтъ, кажется; такъ только остался Галецкій, который такъ похороненъ.
— Кто такой этотъ Галецкій?
— Галецкій былъ большой воинъ. Я учился у дьякона, онъ тогда еще былъ дьяконъ… мы тогда мели церковь… дьячекъ и уронилъ въ церкви гривенникъ; гривенникъ покатился, да подъ полъ; подняли мостовину и вынули гривенникъ. Такъ я самъ въ ту пору видѣлъ склепъ, гдѣ лежитъ Галецкій. Тутъ же нашли образъ святителя Николая; образокъ не большой, вершка въ полтора, а вмѣсто рамки — мѣдный блятъ въ полъаршина.
— А грамотъ никакихъ не остаюсь?
— Говорятъ, есть грамота царя Алексѣя Михайловича. Царь той грамотой пожаловалъ Погаръ на вѣки вѣчные быть городомъ.