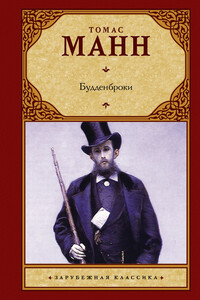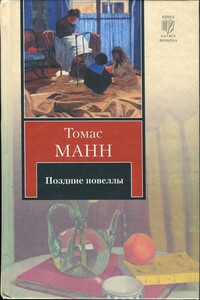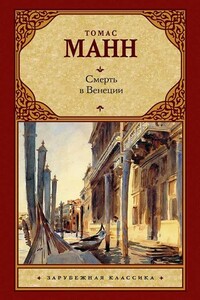Смерть в Венеции | страница 8
Как бы там ни было! Развитие равнозначно участи, и если его сопровождает доверие масс, широкая известность, может ли оно протекать как другое, лишенное блеска и не ведающее требований славы? Только безнадежная богема скучает и чувствует потребность посмеяться над большим талантом, когда он, прорвав кокон ребяческого беспутства, постигает достоинство духа, усваивает строгий чин одиночества, поначалу исполненного жестоких мук и борений, но потом возымевшего почетную власть над людскими сердцами. Сколько игры, упорства и упоения включает в себя самовыращивание таланта! Нечто официозно-воспитательное проявилось и в писаниях Густава Ашенбаха в зрелые годы; в его стиле не было уже ни молодой отваги, ни тонкой игры светотеней, он сделался образцово-непререкаемым, отшлифованно-традиционным, незыблемым, даже формальным и формулообразным, так что невольно вспоминалась легенда о Людовике XIV, под конец жизни будто бы изгнавшем из своей речи все пошлые слова. В то время ведомство народного просвещения включило избранные страницы Ашенбаха в школьные хрестоматии. Ему было по сердцу, и он не ответил отказом, когда некий немецкий государь, только что взошедший на престол, пожаловал певцу «Фридриха» в день его пятидесятилетия личное дворянство.
После нескольких беспокойных лет и нескольких попыток где-нибудь обосноваться он поселился в Мюнхене и с тех пор жил там в почете и уважении, лишь в редких случаях становящихся уделом духа. Брак, в который он вступил еще почти юношей с девушкой из профессорской семьи, был расторгнут ее смертью. У него осталась дочь, теперь уже замужняя. Сына же никогда не было.
Густав Ашенбах был чуть пониже среднего роста, брюнет с бритым лицом. Голова его казалась слишком большой по отношению к почти субтильному телу. Его зачесанные назад волосы, поредевшие на темени и на висках уже совсем седые, обрамляли высокий, словно рубцами изборожденный лоб. Дужка золотых очков с неоправленными стеклами врезалась в переносицу крупного, благородно очерченного носа. Рот у него был большой, то дряблый, то вдруг подтянутый и узкий; щеки худые, в морщинах; изящно изваянный подбородок переделяла мягкая черточка. Большие испытания, казалось, пронеслись над этой часто страдальчески склоненной набок головой; и все же эти черты были высечены резцом искусства, а не тяжелой и тревожной жизни. За этим лбом родилась сверкающая, как молния, реплика в разговоре Вольтера и короля о войне. Эти усталые глаза с пронизывающим взглядом за стеклами очков видели кровавый ад лазаретов Семилетней войны. Искусство и там, где речь идет об отдельном художнике, означает повышенную жизнь. Оно счастливит глубже, пожирает быстрее. На лице того, кто ему служит, оно оставляет следы воображаемых или духовных авантюр; даже при внешне монастырской жизни оно порождает такую избалованность, переутонченность, усталость, нервозное любопытство, какие едва ли гложет породить жизнь, самая бурная, полная страстей и наслаждений.