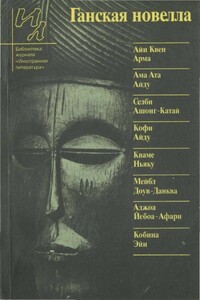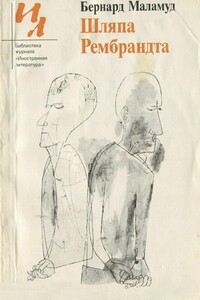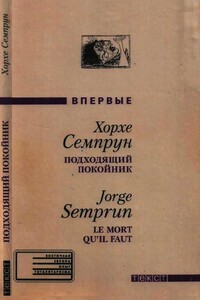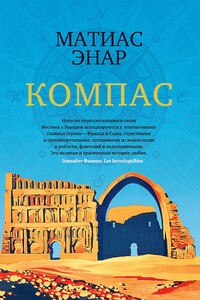Долгий путь | страница 11
Мотоцикл стоял на своем месте, под брезентом, бачок был до половины наполнен бензином. Мы подтащили его к дороге. Мы знали, что немцы всполошатся, как только заслышат треск стартующего мотоцикла. Часть дороги, шедшей вниз по крутому склону, ничем не была защищена. Немцам на сторожевой вышке ничего не стоило обстрелять нас — это все равно что бить по мишеням в ярмарочном тире. Но уж очень Жюльену хотелось вернуть мотоцикл, просто ужас как хотелось. Сейчас я расскажу тебе эту историю, я знаю, ты будешь доволен, что мотоцикл не достался немцам. Мы отвезли его в маки «Табу», на плато Ларре, между Лэнем и Шатильоном. Но я ничего не скажу о смерти Жюльена, зачем бы я стал об этом рассказывать? Да ведь я и сам еще не знаю, что Жюльена нет. Пока Жюльен жив, он сидит вместе со мной на мотоцикле, и мы мчимся в Лэнь под лучами осеннего солнца, и этот призрачный мотоцикл, мчащийся по осенним дорогам, пугает солдат полевой жандармерии, и солдаты наугад стреляют по призраку, прислушиваясь к треску нашего мотоцикла на золотистых осенних дорогах. Нет, я ничего не скажу тебе о смерти Жюльена, столько было разных смертей, нельзя же обо всех рассказывать. Ты и сам умрешь в конце этого пути. И я не смогу рассказать тебе, как погиб Жюльен; пока я и сам не подозреваю об этом, ты же умрешь раньше, чем кончится этот путь. Гораздо раньше, чем я вернусь.
И если все мы умрем в этом вагоне и превратимся в скопище трупов — сто двадцать трупов в одном вагоне, — то долина Мозеля все так же будет стоять перед нашими мертвыми взорами. Не хочу отвлекаться от этой непреложной уверенности. Открываю глаза. Передо мной долина, преображенная вековыми усилиями человека, с виноградниками, уступами спускающимися по склонам, которые покрыты легким слоем снега, кое-где перемежающегося бурыми полосками. Не будь этой картины, я был бы слеп. Я ровным счетом ничего бы не видел. Не я взглядом открыл этот пейзаж — нет, скорее пейзаж вызвал к жизни мой взгляд. Свет этого пейзажа сделал меня зрячим. Долгая история этого пейзажа, сотворенного руками виноделов Мозеля, их вековым трудом, придала вещественность моему взгляду, вдохнула в меня жизнь. Я закрываю глаза. И нет ничего, кроме мерного перестука колес. И нет ничего, кроме долины Мозеля, кроме этой реальности, что существует сама по себе, вдалеке от меня, кроме долины, сотворенной виноделами Мозеля. Я открываю глаза и опять закрываю их, вся моя жизнь теперь — в этом дрожанье век.