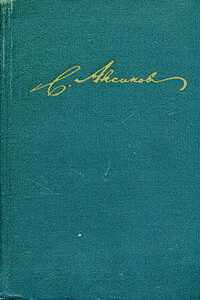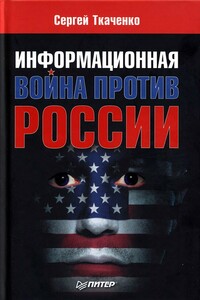Никогда не сдаваться! Лучшие речи Черчилля | страница 16
Увидев, что поезд поворачивает не туда, куда мне нужно, я выпрыгнул из вагона. Потом я долго шел, сам не зная куда и еле волоча ноги от голода. Наконец я понял, что выбора нет: нужно обратиться к кому-нибудь за помощью, как бы рискованно это ни было. Я постучал в дверь какой-то лачуги, ожидая увидеть на пороге бура, но, к счастью, ее хозяином оказался англичанин по имени Джон Говард, который в конечном счете и помог мне пробраться к своим.
Первая речь в парламенте: «В знак уважения к светлой памяти одного человека»
18 февраля 1901 года
Палата общин
26-летний парламентарий занял свое место в рядах тори в новом парламенте. Первое заседание состоялось спустя месяц после смерти королевы Виктории; его открыл король Эдуард VII. Через четыре дня Черчилль произнес свою первую парламентскую речь, в заключение которой он сказал несколько слов в память об отце, лорде Рэндольфе Черчилле, который тоже в свое время (хотя и неудачно) подвизался на политическом поприще и всего шесть лет не дожил до триумфа сына. На следующий день обозреватель газеты «Тори Дейли Телеграф» так написал о выступлении Черчилля: «У него была великолепная возможность проявить себя, и он в полной мере сумел ею воспользоваться». В репортаже, опубликованном в газете «Дейли Экспресс», говорилось: «Битком набитый зал палаты общин слушал его речь затаив дыхание».
Насколько я понял, мой уважаемый коллега, которого мы только что имели честь выслушать, предлагал внести поправку в ответный адрес[1]. Впрочем, саму эту поправку, с текстом которой нам предлагалось ознакомиться в прессе, вряд ли можно назвать радикальной. Но сколь бы незначительной она ни казалась, проблема в том, что ни уважаемый коллега, ни его политические соратники не соизволили обсудить ее в палате или выставить на голосование. Если сопоставить умеренность данной поправки с той более чем дерзкой речью, которую произнес уважаемый коллега, невольно напрашивается вывод о том, что своей умеренностью поправка обязана в основном здравомыслию его однопартийцев, а вся ответственность за резкий тон прослушанного нами выступления лежит в первую очередь на самом ораторе. В приватном разговоре со мной другой уважаемый член парламента высказал предположение, что в сложившихся обстоятельствах, возможно, было бы уместнее, если бы вместо произнесения речи без вынесения поправки на обсуждение уважаемый коллега вынес поправку на обсуждение и воздержался от выступления. Разумеется, я ни в коем случае не стремлюсь ограничить свободу слова моего уважаемого коллеги – я бы не стал этого делать, даже если бы меня об этом попросили. Мой собственный опыт и опыт тех великих людей, которые навечно вписали свои имена в историю палаты общин, показывает, что никакое чрезвычайное происшествие в жизни нации, за исключением разве что реальной угрозы вражеского вторжения на территорию страны, ни в коем случае не должно являться поводом для ограничения свободы слова и введения запрета на выражение собственного мнения с парламентской трибуны. Более того, я не думаю, что буры вообще придадут хоть какое-то значение речам уважаемого коллеги. Мне кажется, ни один народ на свете не слышал в свой адрес так много сочувственных слов и при этом не получал так мало реальной помощи, как буры. Если бы я был буром-повстанцем – а будь я буром, я бы наверняка не отсиживался в тылу, – я наотрез отказался бы верить всему этому сочувственному бреду, даже если бы он был изложен в документе за подписью целой сотни уважаемых членов парламента…