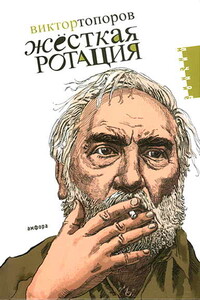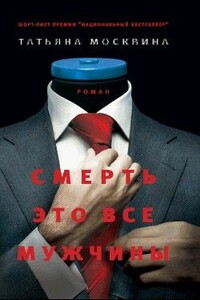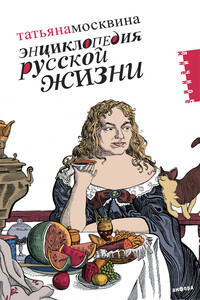Всем стоять | страница 63
Однако, по моему мнению, «сверхнациональное» сознание вовсе не есть нечто высшее и лучшее в сравнении с национальным. Если признать ценностью человеческую индивидуальность, то точно такой же ценностью следует признать индивидуальность той или иной человеческой общности, то есть национальное.
Действительно, одно время собирались «в мире без России, без Латвии, жить единым человечьим общежитьем». Только по видимости слова Маяковского напоминают знаменитое пушкинское «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». У Пушкина народы забудут распри, а не то, что они народы, да и семья – все-таки не общежитие. Жизнь опровергла «без России, без Латвии» – опровергла потому, что она, в отличие от агрессивных и весьма заносчивых форм интеллекта, знает толк в ценности рода и вида.
Если в национальном видеть только частное, ограниченное, узкое, отклоняющееся от абстрактного эталона, то и человеческая индивидуальность потеряет свое почетное место в иерархии ценностей.
Не оттого ли в «Днях затмения» человек так эмоционально беден, так неинтересен, так духовно незначителен и в выразительности своей сильно уступает тому же варану?
Если в кино удачно играют непрофессиональные актеры, это, как я думаю, означает только то, что режиссер увидел нужный ему тип одаренности (пусть и в очень ограниченном диапазоне) в человеке, специально актерской деятельностью не занимающемся, а не то, что можно взять кого угодно и силой своего гения преобразить. Правда, те задачи, которые ставит режиссер Умарову и Ананишнову, выполнить, наверное, не столь уж трудно, главное – сохраняя сосредоточенное, серьезное, философское лицо, говорить тихим, ровным голосом, не проявляя никаких эмоций. Такому поведению и объяснение есть в предлагаемых обстоятельствах фильма – очень жарко, так что все персонажи как бы квелые от жары. От жары друзья наши не щеголяют нарядами, как в «Скорбном бесчувствии», и их хорошо вылепленные, блестящие от пота торсы и тому подобная ювенильная морока сообщают фильму ноту чувственности, иногда чуть-чуть смягчающей то глубокое эмоциональное отчуждение, в которое погружает фильм.
Новый человек Малянов отрешен не только от национального, но и от многих других конкретных частностей живого бытия. Он равнодушно принимает сестру (Ирина Соколова), с холодным любопытством смотрит на учителя Глухова, которого уводит крикливая и пестрая жена-бурятка, и, судя по монтажу (вслед за уходом Глухова – завод, зубчатые колеса, грязные механизмы), механизмы семейственности также чужды ему. Единственный эпизод, когда Малянов выказывает какие-то чувства, заботу о другом, – сцена с ребенком-ангелом. Несмотря на прямолинейную иллюстративность (во время пребывания ангела у Малянова по радио звучит католическая месса), это единственная сцена, производящая живое впечатление.