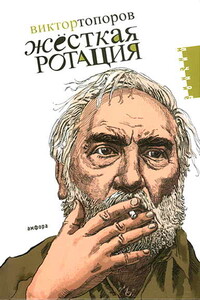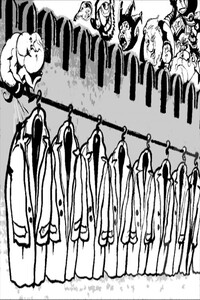Всем стоять | страница 16
Этот проклятый вопрос неминуемо возникает всегда, когда мы видим ситуацию «напрасной любви», столь частую в русской литературе. Островский занимает тут чуть ли не первое место по множеству воплощений драмы женщины, в каком-то отношении стоящей выше мужчины {может, и во всех отношениях) и тратящей гигантское усилие души, чтобы понять, спасти, вдохновить его. Подобное творческое упорство исключает случайность конфликта – полюбила не того, кого следовало, а вот если бы… Нету – «если бы».
Освобождение женщины сделало насущной необходимостью выбор ею любимого человека. И в этом выборе со всею силою сказалась несвобода, неволя, зависимость – от судьбы, от пошлостей воспитания, от скверных романов, от моды, от неразвитости нравственного чутья, от самолюбия и властолюбия, от собственной потребности любить во что бы то ни стало и кого бы то ни было, от времени и истории, наконец.
Любовь Людмилы велика и несоразмерна ни с личностью Николая, ни с благополучным итогом хлопот по его «спасению». Но чувство это непросто, много тут наслоено: и жертвенный фанатизм, и наивность худо разбирающей жизнь немолодой девушки, и аффектация поздней страсти, Любовь, как полет свободной, прекрасной души, угадывается сквозь нелепости – даже так! – своего воплощения.
Трудно воплощается душа. У позднего Островского есть удивительная пьеса «Невольницы» – это трагикомедия житейской пошлости. Евлалия Андреевна (уже и имя героини двоится: и нежное, и нелепое, и красивое вроде, и смешное), немолодая (правда, по мерам давним – ей двадцать восемь), замужняя женщина – влюбилась, вернее, изобрела себе романтическую, возвышенную любовь. И со всей силой сентиментальной, искусственной страсти терзает свой очень прозаический «предмет».
Пошлость, жизненной обстановки кладет тяжкий отпечаток на эту любовь – она выглядит смехотворной, нелепой… И все переворачивается-оборачивается в этой пьесе: идеальное – реальной пошлостью, пошлое – возвышенным, сквозь благородство просвечивает эгоизм, ум высказывает философию мелкотравчатого цинизма, верные слуги продают за грош, и вся эта напряженная трагикомическая пульсация приводит к счастливому и нервному крику радостного мужа – тирана, даровавшего жене полную и абсолютно не нужную ей свободу: «Играй, Евлалия, играй по большой, проигрывай тысячи!» Ибо она, разочаровавшись в предмете, не знает, что делать – разве в вист… Что ж, и любовь может обернуться смехотворной пошлостью? Так, да не так. Все смутно, зыбко, ненадежно, все кувыркается, меняет личины – но ведь душевная красота Евлалии, ее внутренняя мелодия, чистая и искренняя, – несомненны. А только в аранжировке жизни и соната может прозвучать полькой-бабочкой.