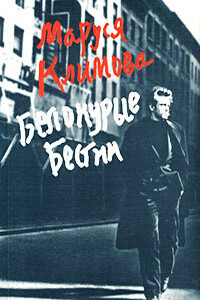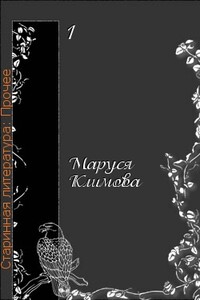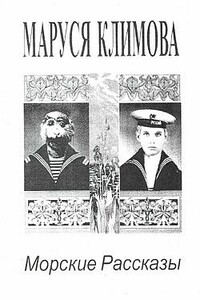Растоптанные цветы зла. Моя теория литературы | страница 45
А тут как раз исполнилось восемьдесят пять лет Солженицыну! Конечно, было бы большой натяжкой сказать, что неожиданное обретение мною зонтика прямо день в день совпало с юбилеем Солженицына, отчего я вижу в этом совпадении какую-то неслучайную и глубокую связь между двумя «великими писателями земли русской», то есть мной и Солженицыным. Хотя зонтик и вправду я обрела где-то в середине прошлой недели, ну, может быть, днем раньше юбилея: Солженицын, насколько я помню, как раз тогда несколько раз промелькнул на экранах ТВ и, судя по всему, стал здорово похож на памятник Достоевскому, который несколько лет назад открыли на углу Кузнечного и Большой Московской. Просто вылитый Ф. М.! Однако дело не в этом.
Первым произведением Солженицына, которое мне попалось еще в школе, стал «Один день Ивана Денисовича». Тогда он уже был запрещен и, естественно, в школьную программу по литературе не входил. Мне его дала прочитать подруга. Она принесла мне старую затрепанную «Роман– газету» с портретом писателя на обложке. Я читала «Один день.» всю ночь, скрываясь от родителей, с фонариком под одеялом. И я была просто подавлена этими подробнейшими описаниями прожженных валенок, дырявых ботинок, залатанных фуфаек, рваных рубах, стаканов махорки, отмеренных с особой тщательностью, бревен, шлакоблоков, цемента, ломтей и крошек хлеба, корочек, которые главный герой заворачивает в чистую тряпочку и хранит до обеда специально, чтобы начисто вытереть ими миску из-под каши и, наконец, лютого сибирского мороза… Помню, тогда эта книга, как тяжелый непосильный труд, придавила меня к земле, не оставляя в дальнейшем ни малейшей надежды разогнуться. Персонажи этого рассказа, как старательные тупые муравьи, упорно снуют туда-сюда, пробивая себе дорогу к свету, к теплу, к пище. И я вдруг почувствовала ужасную тоску оттого, что мне тоже неизбежно когда-нибудь придется вписаться в этот человеческий муравейник и всю жизнь таскать и таскать соломинки, тряпочки и крупинки. Эта перспектива буквально повергла меня в отчаяние. Но чтобы выжить, муравьиной работы было явно недостаточно – необходимы были еще крайняя порядочность, обостренное чувство собственного достоинства и какое-то нечеловеческое смирение. В частности, один из персонажей «Дня» – некий Цезарь Маркович, который, насколько я помню, стоял и гордо курил, прислонившись спиной к бараку, – оставляет свою недокуренную сигарету вовсе не какому-то жадно смотрящему ему в рот прихлебателю, а именно исполненному собственного достоинства Ивану Денисовичу, смиренно стоящему в сторонке и ничего ни у кого не клянчащему. И вот это последнее условие уже окончательно вогнало меня в депрессию, так как я почувствовала, что совершенно неспособна выполнять все требования взрослой жизни. То есть если муравьиную работу я выполнять еще более-менее способна, то все остальное показалось мне абсолютно непосильным! И следовательно, я для этой жизни просто не подходила.