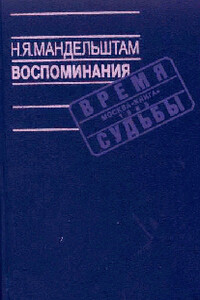Вторая книга | страница 13
[12]
индульгенции не требовалось: понятие греха было отменено и объявлено идеалистическим предрассудком. Индивидуалисты, ублажавшие свое омертвевшее "я", составляли верхушку общества и были гораздо заметнее оцепеневших. Своеобразие заключалось в том, что за кучкой индивидуалистов прятались огромные толпы оцепеневших. Среди них была я и жила общей с ними жизнью.
Потеряв свое "я", обе категории, оцепеневшие и индивидуалисты, оторвались от всего, на чем строилась повседневность, жизнь и то, что называется культурой. На что мне все эти заветы, если это только путь к личному спасению, которое еще к тому же никакими гарантиями не подтверждено? Стоит ли сыр-бор городить ради отвергнутого и ненужного "я"?.. Сжатое и раздавленное "я" где-то ютилось в полном сознании своей никчемности и отсутствии права на жилплощадь. Мне тоже, как Солженицыну, перепадала иногда палочка шашлыку, и я понимала, что это стоящее дело, настоящая реальность, почти что паек, только незаслуженный, а потому особенно сладостный, но до "я" ли мне было, когда я помнила, что есть "они", и "ты", и "мы", и такая боль, с которой не сравнится никакой инфаркт.
Вместе с "я" отпадал и смысл жизни. Мальчиком Мандельштам сказал неуклюжие и странные слова: "Ибо, если в жизни смысла нет, говорить о жизни нам не след..." Ни жизни, ни смысла жизни для меня, как и для всех оцепеневших, уже не было, но меня, как и большинство из них, спасало "ты". Вместо смысла жизни появилась конкретная цель: не дать затоптать след, который оставил на земле этот человек, мое "ты", спасти стихи. В этом деле у меня была союзница - Ахматова. Восемнадцать лет, хороший лагерный срок, мы жили, не видя просвета, без всякой поддержки извне, не смея произнести заветное имя - только шепотом, только с глазу на глаз, - и тряслись над горсткой стихов. Потом забрезжила надежда, и Ахматова стала повторять: "Надя, у Оси все хорошо". Это значило, что стихи нашли своего читателя. Я не сразу поняла значение Самиздата и огорчалась, что Мандельштама не печатают. У Ахматовой и на это был ответ: "Мы живем в догутенберговскую эпоху" и "Ося в печатном станке не нуждается"... И я постепенно убедилась в ее право
[13]
те: стихи - вещь летучая, их нельзя ни спрятать, ни запереть. Именно стихи пробили дорогу прозе в таинственных каналах самозародившихся читателей. Читатель появился совершенно неожиданно, когда никакой надежды на него не оставалось. Он научился отбирать то, что ему нужно, а стихи, двинувшиеся к нему, преобразовали его и вывели на дорогу.