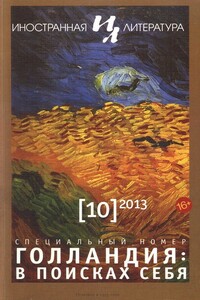Спаси нас, Мария Монтанелли | страница 33
Однажды я пригласил Яна к себе домой. Не помню точно, с какого перепугу. Ведь я его недолюбливал. Возможно, в глубине души я надеялся, что в домашней обстановке он перестанет вести себя как несмышленый младенец, нуждающийся в родительской опеке. Я показывал ему модели самолетов и танков, склеенные моими руками за последние годы, ставил ему пластинки, увеличивая громкость в самых красивых местах (так же как делал это, когда ко мне заходили Эрик и Герард). Я даже показал ему свои рисунки и комиксы. Слабоумный по большей части молчал, лишь изредка кивая. Хотя, увидев на рисунке кошку, сигающую с балкона пятого этажа, он рассмеялся. На моих глазах – впервые. Я сразу предложил ему снять пальто, шарф и варежки. Шарф и варежки он таки стянул, но пальто не захотел снимать ни в какую. Я чувствовал, что парень меня боится. Проблема в том, что я знаю, как нагнать страху на человека, но совершенно не представляю, как дать обратный ход, позволив окружающим расслабиться в моем присутствии.
Одним словом, у меня было ощущение, что я делаю доброе дело, что так и нужно. По сути, моя тогдашняя благосклонность к слабоумному ничем не отличалась от покровительствующего отношения к нему учителей в Монтанелли. Однако на роль благодетеля я подходил меньше всего. По моему глубокому убеждению, помогать вообще никому не надо. Люди, нуждающиеся в помощи (неважно, просят они о ней или нет), требуют к себе иного подхода, чем те, кто и без помощи может обойтись. При этом я отнюдь не утверждаю, что друзей, например, не стоит выручать из беды, нет, это другое, на то они и друзья, чтобы поддерживать друг друга. Тот, с кем постоянно нянчатся, утрачивает самостоятельность, привыкая к мысли о том, что его всегда вытащат из воды. Он становится настолько зависимым от других, что специально бросается в воду, лишь бы только его чаще спасали. Думаю, мир бы преобразился, если бы из него исчезла жалость. Я размышлял об этом, пока слабоумный пил кока-колу, которой я его угостил, при этом он практически не осмеливался смотреть мне прямо в глаза. Впрочем, и мне было бы неловко смотреть в глаза тому, кто изо всех сил пытался бы мне помочь.
Моя мать, которая уже болела, была тем не менее на ногах, сомнамбулой передвигаясь по дому. Не скрывая своего отвращения, она оглядела Яна с ног до головы.
– Этого мальчика непременно надо дразнить, – сказала она потом. – Именно этого он и добивается.
Спустя несколько дней ко мне подошел Ван Бален. Должность учителя голландского языка он совмещал с классным руководством. В каждом классе был свой руководитель, который совал нос во все дела. Его интересовало буквально все: твои успехи по части карточек, твое настроение, причины твоего упрямства и твои жизненные цели. Помимо классного руководителя существовала еще должность старосты, которого выбирали всем классом, поручая ему организовывать всевозможные мероприятия. Я и был тем старостой, но ни фига не организовывал. Ван Бален как-то ненароком спросил, зачем мне понадобилась эта должность – чтобы повысить свою популярность? Но все было с точностью до наоборот. Я выдвинул свою кандидатуру именно потому, что уже был одним из самых популярных фигур в классе. Ван Бален всегда умудрялся перевернуть все с ног на голову. Тот факт, что я не использовал в личных целях статус классного избранника, вписывался, с моей точки зрения, в ту концепцию свободы, за которую так ратовали в лицее Монтанелли. Однако Ван Бален пропустил мимо ушей мою теорию и принялся снова талдычить про мой негативный настрой, достав меня до печенок. В этом лицее наши наставники сами толком не знали, чего хотели.