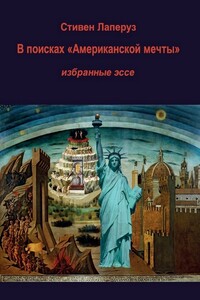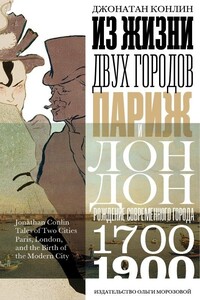Русские трагики конца XIX — начала XX вв. | страница 56
Начинал этот монолог артист на средних нотах, вторая строка шла на более низких, и вдруг слово «ад» произносилось протяжным, как стон, фальцетом.
Постепенно принц доходил до страстного возбуждения, и последние слова звучали, как падение камня, брошенного в тишину омута.
В творчестве Дальского всегда присутствовала тема бунта, мятежного неприятия окружающей жизни, построенной на корыстном расчете. Находила отражение эта тема и при исполнении роли Датского принца.
Известный театральный критик начала нашего века А. А. Измайлов (Смоленский) утверждал, что актер давал искренний, скорбный, глубокий, чуткий образ страдающего принца. Его игра была чужда театральщине и аффектации. В ней были прекрасно продуманные детали. Когда артист только начинал играть эту роль, ей была более присуща трогательность, красота. Но и позже зрители видели «облако печали на лице принца, оно передавало скорбное настроение зрителю с момента выхода артиста на сцену»[136].
Гамлет Дальского с длинными белокурыми волосами, в традиционном плаще и трико, совсем не был каким-то неземным героем. «Это человек с нашей точки — общежитейский, нормальный» страдающий исключительно благодаря своему чуткому сердцу, своей чуткой душе, которая не может примириться с царящей кругом людской подлостью»[137].
Дальский утверждал, что «русский всегда будет играть Гамлета иначе, чем француз, немец, англичанин»[138]. Но когда он играет Гамлета, то его должны понимать и профессор, сидящий в первом ряду, и дворник, находящийся на галерее.
В сцене с Тенью старого короля Дальский делал колоссальные усилия, чтобы отвлечь внимание зрителя от Тени, перенести его на себя, на свои внутренние переживания, на беседу с собственной совестью, с собственной нерешительностью, с двойственностью своей психики. Пусть материализованный дух виден публике. Гамлет его не видит, он носит этот образ в душе, в воображении. «Мастерство, с которым Гамлет вел эту сцену, идеально. Ему почти удавалось достигнуть того, что публика не обращала внимания на бутафорскую тень»[139].
Траурный костюм Гамлета не был признаком горя, он служил вызовом. Да, есть мир потусторонний, но он где-то там, далеко, а здесь мать оскорбила своим поступком честь человека. И гнев против нее все более усиливается. Гнев потому, что она нарушила человеческие законы.
Все, что говорит и делает принц, имеет тонкий расчет, и его безумие — только притворство, стремление уйти от мирского зла. «Этот принц никому ничего не прощал: «Из жалости я должен быть жесток». Но ничего не прощал и себе»