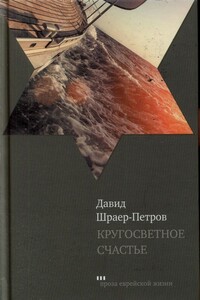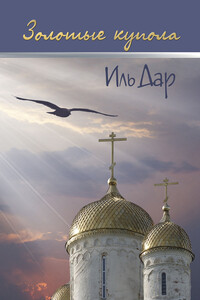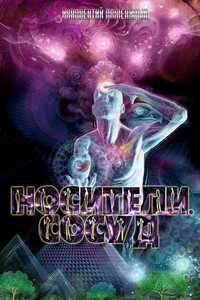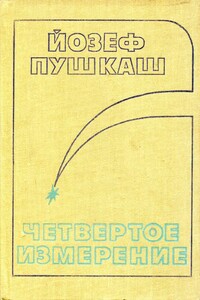Идеалист | страница 32
Несмотря на эти снисхождения и поблажки торговой сети, повторяю, на двадцатое октября 1967 года Илья не испытывал к ней особо теплых чувств. С этого числа, после двух дней бесплодного хождения по магазинам, он возненавидел их на весь остаток своей жизни, и, надо прямо сказать, — без особых на то оснований, ибо один подарок он все-таки купил (комплект пластинок «Русская хоровая музыка XVI–XVIII веков»), а что касается «хама», которым его наградила одна продавщица, и риторического вопроса: «Гражданин вы что, лучше других?», заданного другой, то кто же всерьез воспринимает такие вещи! Но не таков был Илья Снегин. Вернувшись в свою похорошевшую келью в состоянии мизантропии и сильной головной боли, он принялся размышлять о причинах порочности советской системы обслуживания. Почему на покупателя смотрят как на оккупанта? Почему за собственные деньги вещь нельзя просто купить, а надо «доставать», добывать, вырывать у кого-то? Нет, не оккупант — проситель, жалкий, нищий и надоедливый проситель, зануда, не желающий брать все подряд, сам не знающий, что он хочет…
Он был на пути к истине, он быстро приближался к ней, когда пришел к заключению, что непосредственной причиной является дефицит и низкое качество товаров, которые в свою очередь объясняются, по-видимому, низкой производительностью и неоперативностью экономики… Он, без сомнения, уже тогда пришел бы к первопричине, если бы не безотлагательная проблема подарка, которая из весьма приятной два дня назад успела стать безнадежно тягостной. Помочь ему мог только Андрей Покровский, но с ним было трудно связаться, так как жил он на другом конце Москвы и телефона не имел. Пришлось звонить его товарищу, жившему по соседству, и просить зайти к Андрею — Илья терпеть не мог являться «татарином». Через час Покровский позвонил ему, выругал за церемонии и сказал, что ждет.
С Андреем Илья познакомился курсе на третьем, когда в холле северной аудитории физфака была устроена его полуофициальная выставка (в разгаре была знаменитая оттепель, за которой не последовало весны). Теперь там оборудованы канцелярии, а в начале шестидесятых — всегда была какая-нибудь выставка, фотомонтаж или газета с нейтронным юмором. По окончании, как водится, в том же холле художник отвечал на вопросы любознательных физиков, желавших знать, что означают бледные, похожие на поганки, люди с проросшими в земле ногами, или — младенец, орущий на куче мусора, или — пирамида из полусгнивших трупов, по которой карабкается молодой и энергичный, и т. д. Художник, молодой человек лет двадцати пяти, посмеивался и, уклоняясь от спора, спрашивал их, как они сами трактуют ту или иную картину. Они отвечали, перебивая друг друга, спорили и вскоре сам художник оказался в стороне от дискуссии, что его, по-видимому, в наибольшей степени устраивало. Особенно выделялся высокий, белобрысый юноша, которого Покровский окрестил про себя «комсомольским вождем». Сей спортивного вида оратор упрекал его в социальном пессимизме, в том, что он не верит в прогресс (он произносил это слово явно с большой буквы). Но удивило Андрея, что «вождь» хвалил две-три работы, которые ему самому казались лучшими среди представленных. После дискуссии юноша подошел к нему и стал напрашиваться в гости посмотреть другие картины. Поскольку Андрей не сомневался в присутствии на обсуждении, по крайней мере, представителя комсомольского бюро, он тут же решил, что это именно он. Однако, во взгляде и улыбке «технаря» не просвечивалось даже намека на какую-либо тайную цель. И Андрей пригласил, за что получил от друга детства Игоря следующий выговор: «Где ты откопал этого марксиста-ленинца? Вечно у тебя сомнительные знакомства. К тебе опасно ходить стало». Андрей, посмеиваясь, отвечал, что Илья помогает ему держаться на необходимой дистанции от соцреализма.