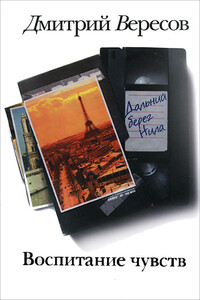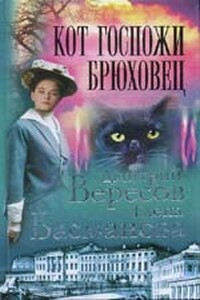Генерал | страница 14
История порой совершает немыслимые кульбиты: через полвека после начала Великой Отечественной войны дело генерала Власова не только ожило, но и в определенном смысле победило. Основы новой российской государственности местами до боли схожи с тезисами Пражского манифеста, а власовское знамя – торговый триколор Российской империи – гордо реет над страной, сокрушившей чудовищный гитлеровский нацизм.
Как писал наш последний, катастрофический император: «Боже, спаси и сохрани Россию».
И последнее: я от всей души благодарен моим друзьям, оказавшим огромную помощь в написании этой книги:
– Марии Барыковой, за помощь в работе над текстом и бесценные архивные материалы;
– Андрею Буровскому и Олегу Широкому, за исторические справки и комментарии;
– Серайне Сигрон, за вставки на немецком.
Книга первая
Рассвет над Дабендорфом
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.
Ольга Берггольц
29 июня 1941 года
Мелкая латгальская пыль так непохожа на пух паникарповских дорог, всегда, даже в самые злые и жаркие июльские дни, обволакивающий ступни негой, по-детски веселой, щекочущей, обещающей. Так ведь то – земля родная, из которой восстали и в которую уйдем, земля, которая уже едва ли не наполовину – прах предков. А здесь колючая, немая злая пыль, так напоминающая невыразительные лица окрестных крестьян, в бесцветных глазах которых не прочтешь ничего. Почему-то именно теперь он нутром понял, почему именно латгальцы так рьяно служили новой власти четверть века назад, почему так зверствовали: пустота не может не оказаться заполненной, ей нечем противостоять ни злу, ни добру, и, может быть, именно пустота – главный наш грех. Но настолько страшна была даже просто мысль о пустоте, страшна даже сейчас, на седьмой день войны, что он постарался отогнать ее, искусственно вызвав перед внутренним взором родной дом с высоким мезонином в три окна под двускатной кровлей… и запах пряностей, столь любимых бабушкой Марьей Александровной, на миг забил вонь бензина и кислоту пороха. Ах, каталоги «Иммера и Матера», анис, тимьян, фенхель… Черт, ведь одни названия чего стоили, капуста Ленорман[2], шарлаховая земляника[3] и розы, розы, розы… И девичьим румянцем тут же полыхнуло к северу от дороги – рвались девятифунтовые, как он все-таки предпочитал говорить, даже столько лет проведя в Академии.