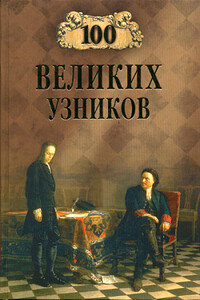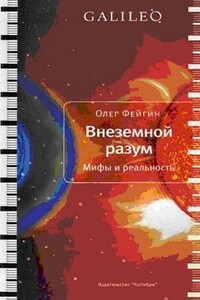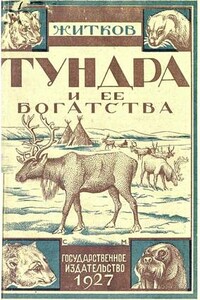Музыкальная журналистика и музыкальная критика | страница 13
Именно в историческом движении культуры прежде всего следует искать корни таких специфических особенностей художественно-критического осмысления, как:
– непрерывно происходящая переоценка ценностей;
– относительность истины критической оценки;
– вариативность (множественность) пониманий, характерная как для одного периода, если она исходит от множества воспринимающих, так и, что особенно важно, для развертывания во времени;
– разомкнутость, неокончательность критических суждений.
Музыкальная критика (как и все виды художественной критики) обладает определенной автономией и самоценностью. Причина заключена в том, что процесс художественной деятельности непрерывно порождает художественную критику из самого себя. Критическая мысль действует как механизм саморегуляции художественной культуры, она является одновременно и реакцией на создаваемое и побудительным толчком к созиданию. Связано это с особыми свойствами самого объекта художественной критики – искусства.
Музыкальная критика и музыкальное искусство
Процесс самоидентификации музыкальной критики как оценочной мысли о музыке в первую очередь наталкивается на сакраментальный вопрос: зачем она нужна искусству? Что их связывает? Пребывает ли музыкальная критика в роли зависимого и подчиненного творчеству подразделения, как нередко кажется многим композиторам («пусть сначала сам попробует что-нибудь написать, а потом рассуждает на тему – что хорошо, а что плохо»!), или у нее есть свое место в музыкально-культурном процессе? Ф.М. Достоевский на эти вопросы дает исчерпывающий ответ: «Критика так же естественна и такую же имеет законную роль в деле развития человеческого, как и искусство. Она сознательно разбирает то, что искусство представляет нам только в образах»>8.
Искусство полностью пребывает в пределах ценностного сознания. Оно не только нуждается в оценке, но вообще реально осуществляет свои функции только при ценностном к нему отношении. Например, невостребованное произведение (т. е. не являющееся ценностью для данного общества) как бы не существует. Этим объясняются длительные периоды непризнания, забвения, а значит и фактического «несуществования» многих произведений искусства для целых эпох; либо неприятие культур чужеродных, этнически далеких, а потому не воспринимаемых. Открытие таких культур равнозначно акту рождения оценочного к ним отношения.
Взаимоотношения искусства и оценочной мысли о нем в некотором роде несут на себе отсвет вечного вопроса об изначальности «слова» и «дела». Ведь невозможно определить в абстракции, что первично и что вторично, что возникло раньше – само искусство, а затем оценочное к нему отношение, или сначала возникла потребность в искусстве,