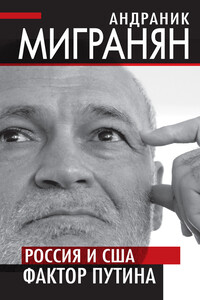След рыси | страница 5
Кот мог думать лишь в пределах открытого ему опыта, он, конечно же, думал, иначе почему так жили, шевелились, полунастораживались его большие уши с кисточками чутких волос-антенн. Кисточки позволяли коту как бы одновременно слышать и осязать. Люди не знают такого свойства. Он слышал все: неслышный писк летучих мышей, их полет-мелькание, словно танец духов, движение-шорох кротов в глубине земли, скрип зубов невидимых землероек, пробежку мышей, полет сов. Уши сообщали коту, как резвятся зайцы на прогалинах у болота, как крадется к ним кустами опушки лиса, как бормочет во сне большой петух-глухарь, последний взрослый глухарь в округе…
Кот знал черную, большую, покрытую пепельным морозным узором птицу, но не подстерегал, как будто понимая, что без этого бровастого строгого петуха исчезнет в лесу и последнее токовище, и две глухарки, рыжие и чистоперые по-лесному, уж не будут водить по ягодникам, по летнему черничнику, осенней бруснике и предзимней клюкве выводки большеголовых небоязливых глухарят с томительным недоуменным взглядом. Глухарят одного по одному он подстерегал и ловил, когда птицы располагались греющим полднем на разгребенном подзоле у опушек и блаженствовали, как стая деревенских кур… Но даже и тут, нападая, кот не хватал без разбору: ловил пестрых с прочернью петушков, оставлял на потом нескладных молодых глухарок, совсем не трогал матерых копалух, что бросались отводить его с беспримерным самоотвержением.
Кот знал всех обитателей этих боров, их тропинки, ходы и норы, и так же знали кота обитатели, хозяева гнезд и нор — от гнедых кислых муравьев до дятлов, соек и белок. Сойки с дятлами встречали кота криком, белки брюзжанием и цоканьем, а он лишь презрительно взглядывал в их сторону, дергал хвостом или ухом, шел восвояси походкой хозяина, — летом, осенью и весной наперед знал, где найдется еда, и, как рачительный хозяин, никогда не ловил ее больше, чем мог съесть и насытиться, знал: еда должна жить и размножаться. Горе было тем, кто нарушал этот простой закон. Сытый кот тотчас уходил в свое убежище под разрушенной скалой-останцем в самой глубине леса. Когда-то в дальние бесконечные времена здесь была большая гора, веками дышала пеплом и жаром, но время погасило ее, ветер, солнце, мороз и дожди выветрили, размочили, рассыпали ее вершину, гора заросла, оставив, как памятник себе, каменный столб-сердцевину и россыпь голубых валунов вокруг. Здесь было много укромных, потаенно скрытых мест. Здесь на прогалинах, заваленных камнем, с весны до зимы жарко грело-припекало солнце, а осыпь гребня хранила от северного и восточного ветров. Глубокий снег не накапливался на валунах, оставался за перевалом, сносило его в низину, и кот не знал лучшего места, где было бы так тихо, тепло и спокойно. Он был полным властелином этого склона, и каждое большое дерево было отмечено здесь его когтями и мочой, здесь были особые валуны — тут спал он летом, нежился на безветровом припеке, и глухие укрытия — туда скрывался от дождя и мокрого снега. Осенью сюда приходила кошка, и они согласно бродили по всему склону, играли в охоту, прятались, догоняли друг друга, становились в оборонительные позы — глянь со стороны, вот-вот покатятся в дикой схватке, с раздирающим воздух визгом, — но никто не видел таких битв, просто кошка любила по-женски красоваться, а кот хвастать своей силой, и, тихо урча, терлись они потом мордами, покусывали друг друга с ревнивой лаской, лежали под каменным свесом убежища, и кошка клала покорную голову на его широкие толстые лапы. Под скалой совершал он свой вечерний и утренний обряд: чистил шерсть, вылизывал когти, мыл морду, тер за ушами, расчесывал зубами и языком скатанный пух и вообще делал все, что делает хороший домашний кот.