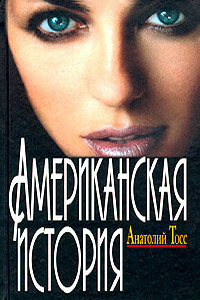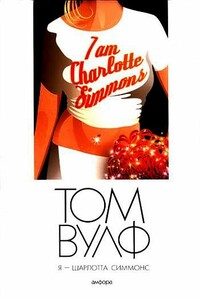Магнолия. 12 дней | страница 19
Я обманул доверчивую девушку Милу. Не две-три, даже не пять минут я услаждал свою размякшую плоть, а все пятнадцать, наверное. Я бы еще дольше растянул удовольствие, но чувство долга, прежде всего перед брошенной на кухне девушкой да перед наверняка перекипевшим чайником, заставило меня закрутить скользкие керамические ручки кранов.
Только ступив на прохладный кафельный пол, я сообразил, что забыл прихватить с собой свежую одежду. Видимо, впопыхах, а может быть, это Мила своей запекшейся улыбкой выбила меня из колеи. Надевать же на обновленное тело пропотевший, холодный лыжный костюм было неверно. И для меня неверно, и для заждавшейся Милы. Ну и я ничего не надел. Просто обернул бедра длинным, широким полотенцем и вынырнул из жаркой ванной в прохладу квартиры.
Хотя предстать перед Милиным бесцветным взором полуобнаженным я не планировал, это, повторяю, получилось ненамеренно, я был совершенно невозмутим. Должен признаться – в счастливые беспечные времена моей юности я любил свое тело. Искренне, преданно и без сомнения взаимно. Подтверждая взаимность, тело послушно откликалось на любой мой каприз и с энтузиазмом выполняло все, чего бы я ни пожелал[2].
Мила так и сидела на табурете, прислонившись к стенке, но на столе уже стоял заварочный чайничек, пара розеток, наполненных маминым вишневым вареньем, чашки, ломтики белого хлеба на тарелке, масленка – в общем, Мила посамовольничала, похозяйничала, и вполне, надо заметить, уместно. Завидев приближающийся к ней обнаженный торс (мой торс), она ни своим прозрачным взглядом, ни завязшей в губах улыбкой не выразила ни малейшего удивления, напротив, с живейшим интересом стала меня разглядывать. А когда я подошел вплотную, можно сказать, завис над ней, касаясь полой полотенца ее расставленных коленок, лишь подняла на меня глаза и вопросительно наморщила лобик – лицо ее теперь выражало любопытство: мол, ну и что же дальше?
И опять она смутила меня улыбкой, взглядом, вопросительно наморщенным лобиком, наполовину выступающим из-под подстриженной челки. Невозмутимостью, одним словом. Я, как и раньше в лесу, почувствовал себя заведомо просчитанным, переигранным в этой нехитрой игре, которая тут же лишилась интриги, а значит, и азарта.
Почему-то я был уверен, что, если медленно, упершись ладонями в стенку, так, что ее лицо окажется в плену ограниченного руками пространства, я начну склоняться к ней, приближаясь к ее манящим потусторонним глазам, ставшим сейчас просто блюдцами, озерами, небесной, воздушной начинкой, она не оттолкнет меня, не уклонится. Но именно из-за этой уверенности я не приблизился, не склонился. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мне, что прямолинейная атака приведет к поражению, возможно, не сиюминутному, не сегодняшнему, но наверняка в результате неизбежному. Каким-то шестым, плохо еще развитым эмбрионным чувством я все же ухитрился догадаться, что форсировать не следует – не тот случай, не та женщина, – пусть события развиваются сами, и не надо пытаться ни направлять их, ни загонять в прорытое впопыхах русло.