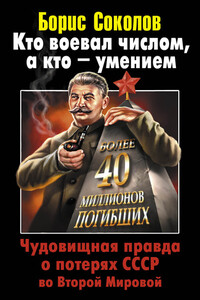Иосиф Сталин – беспощадный созидатель | страница 117
Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере, ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Человек я, как уже раньше об этом говорил, подневольный, и, когда партия обязывает, я должен подчиниться.
Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту.
Что же я мог еще сделать?
Что же касается опубликования «завещания», то съезд решил его не опубликовывать, так как оно было адресовано на имя съезда и не было предназначено для печати».
Троцкий пожинал плоды собственной беспринципности. В 1925 году, подчиняясь решению Политбюро, он в отклике на книгу американского журналиста Истмена фактически отрицал подлинность опубликованного там текста ленинского завещания и утверждал: «Всякие разговоры о скрытом или нарушенном «завещании» представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича и интересов созданной им партии». Сталин со злорадством процитировал на пленуме эти слова своего главного оппонента. Тем более, что в бюллетене, предназначенном для руководящих партийных органов и изданном более чем десятитысячным тиражом, Иосиф Виссарионович ленинское завещание все-таки издал.
Внешнеполитическая программа Сталина в 20-е годы заключалась прежде всего в противостоянии с державами Антанты и ассоциировавшимися в его сознании с ними Соединенными Штатами Америки. Стратегической же задачей было вбить клин между Европой и Америкой, в частности отдалить США от решения германских дел. Именно неустойчивость положения в Германии создавала надежду на новую мировую войну. Но возможности влиять на европейские и мировые дела в то время у Сталина были весьма ограничены. Сокращенная после гражданской войны Красная Армия едва превышала по численности армии государств-лимитрофов, взятых вместе. Разумеется, опасаться совместного нападения этих государств на Советский Союз не было никаких оснований, хотя бы потому, что между ними существовали достаточно серьезные противоречия (взять хотя бы виленский спор между Литвой и Польшей). Что еще важнее, правительства лимитрофов совсем не хотели рисковать своей недавно обретенной государственностью или, в случае с Румынией, новыми территориями в столкновении с Советским Союзом. Но и сил у СССР для успешного нападения на пояс лимитрофов тогда еще не было. Как торговый партнер Советский Союз, ориентированный на автаркию и не имевший в своем распоряжении конкурентоспособных на мировом рынке товаров, большого интереса не представлял. Автаркия, а также бедность населения препятствовали также широкомасштабному импорту в СССР из Западной Европы потребительских товаров. Оставалось только с помощью местной компартии вносить свой вклад в поддержание политической нестабильности в Германии (благо такая нестабильность успешно сохранялась и без советского вмешательства) и делать упор на милитаризацию экономики (для широких масс она называлась модным словом «индустриализация»), результаты которой должны были дать Сталину возможность проводить политику с позиции силы.