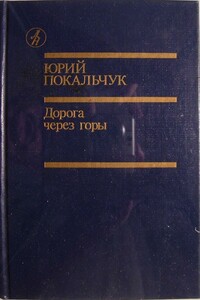На южном берегу | страница 41
Особенно, когда он приходил к нам в палату после отбоя и рассказывал разные истории о себе или что-то из прочитанного. Каждый хотел, чтобы Леонид Николаевич сел к нему на кровать, когда он приходил к нам вечером. А он всегда садился ко мне. И все привыкли и завидовали мне, а ему обо мне говорили: «Ваш Цёх», — мне было страшно приятно, что я был чей-то.
А однажды он говорил о какой-то книге, и все заснули, только я не спал, и он рассказывал мне одному, и рука его машинально гладила мои волосы или руку, которая лежала на одеяле. А я не двигался, так мне было хорошо. Даже страшно, как было хорошо.
Потом он пожелал мне спокойной ночи и пошел спать, а я еще долго не мог уснуть, думал, чувствовал его руку на своей голове. Наверное, не забуду этого прикосновения никогда. Помню его и сейчас...
А на другой день все пошло кувырком. Мы полезли с ребятами за черешнями в колхозный сад, набрали полные запазухи и пришли в детдом. А из колхоза уже жаловались директору, и он приказал воспитателям, а те — нам, чтобы в сад — ни ногой. Меня Леонид Николаевич предупредил отдельно, и очень сурово. Он вообще относился ко мне придирчиво. Я тогда понял почему — боялся, чтобы не сказали, что он все мне спускает.
Почему я все-таки полез в сад? Что потянуло меня после этого к Леониду Николаевичу? Действительно ли захотелось угостить его лучшими черешнями или, может, я хотел проверить его реакцию, его привязанность ко мне, которую я так ценил, но в которую где-то в глубине души не мог до конца поверить. Сомневался.
Если бы еще никого не было рядом, а то Володька Макуха и Емец стояли неподалеку, когда он ударил по протянутым рукам с черешнями. Черешни полетели мне прямо в лицо, а Леонид Николаевич ударил по моим рукам еще раз.
«Ты что? — воскликнул он. — Издеваешься, что ли? Думаешь, тебе сойдет, если другим не сходит? Распустился, много себе позволяешь...»
Он говорил еще что-то в этом духе, но я уже ничего не слышал. Слезы заволокли мне глаза так неожиданно, что я не успел их удержать, и они потекли по щекам. Я отвернулся и побежал прочь. К нему больше не подходил. Не мог. Я знал, что не прав, знал, что Леонид Николаевич тоже переживает, что ему хочется, чтобы я подошел к нему. Но я не мог.
Он находился у нас еще месяц. Впоследствии наши отношения внешне наладились, но о прежнем контакте не могло быть и речи. А потом он уехал. Мы пошли в школу. А когда встретил его на улице в Луцке — я был уже в десятом классе, — мы даже хорошо поговорили. Он потолстел слегка, женился, работал учителем где-то под Луцком. Во время этого разговора мы оба сожалели о том, что было... Но и это миновало, как все.