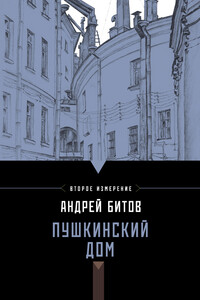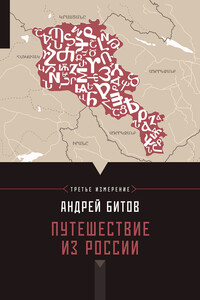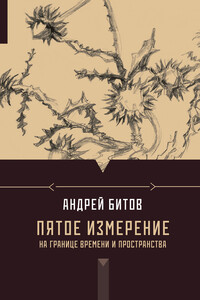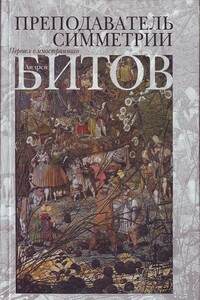Пушкинский том | страница 67
За этот год он как бы пережил, переварил «Горе». Но пережил и переварил с помощью других достижений.
По-видимому, прерванность эта была очень для него драматична, не знаю, как. А может быть, это совершенно подсознательно: ну его к черту, значит вот буду писать драму в духе Шекспира. Ни мало ни много. Но и о «Горе» он думал тоже. Сходно сошлось. В том же декабре он думал про «Годунова», но где-то там, в отдалении. А тут, после «Горя», – немедленно «Годунова»! И он начинает ломать себя. И по-моему, это единственная его вещь, в которой видны большие энергетические усилия. Я имею в виду «Годунова». Пушкин, как известно, нигде не ловится на запахе пота и труда. А вот тут, значит… но это совершенно дело вкуса, потому что произведение совершенно замечательное…
И когда он завершает его – в ноябре, 7 ноября – письмо Вяземскому – «Ай да Пушкин!» – высота Шекспирова взята… Это совершенно другой человек – он чувствует, что он сделал то, чего он все-таки не делал.
Но делал-то он все-таки – другое. Перед этим. То есть он все-таки переключился.
После этого он, по моим расчетам, – это, собственно, моя гипотеза – он пишет после этого «Сцену из Фауста», задумывает, собственно, внутри Грибоедова весь цикл маленьких трагедий. То есть он движется как драматург.
Потом, когда ему «заяц перебегает дорогу», он пишет пародию уже на Шекспира – «Графа Нулина», – то есть замыкается какой-то комплекс взаимоотношений с гениями мировой литературы. С Шекспиром, с Байроном, с Гёте.
И возобновляются отношения с Грибоедовым. Пушкин – человек, между прочим, необыкновенно замечательный вот в каком отношении: он никогда не прячет… сноску. Разобрать отношения Грибоедова с Пушкиным – это была бы отдельная история. Но меня это не интересует. Эти отношения были наверняка… я не хочу этим заниматься. Со стороны Грибоедова я эту историю разглядывать не хочу. Мне интересно разглядывать это со стороны Пушкина.
Дальше: сначала сон Татьяны, потом съезд гостей в духе грибоедовской Москвы… встречаются эпиграфы в «Евгении Онегине» из Грибоедова – к Москве, и дважды Грибоедов цитируется…
Когда дописывается «Онегин» до конца, уже в Болдинскую осень, обратите внимание на последнюю главу. Что там такое? Это же «Горе от ума» наоборот:
во-превых, Татьяна – не Софья, то есть не «московская кузина»;
во-вторых, Скалозуб – это не Скалозуб, а благородный генерал;
а Евгений Онегин – дурак. То есть вся ситуация последней главы – это абсолютно «Горе от ума», вывернутое наоборот, переваренное наоборот, написанное наоборот. На всё произведение, на «Евгения Онегина» с того момента, как Пушкин прочитал «Горе», можно проследить какое-то… не влияние, а взаимодействие, учет того, что это уже сделано. Значит, выйти снова на необходимую энергетику он смог с помощью «Бориса Годунова».