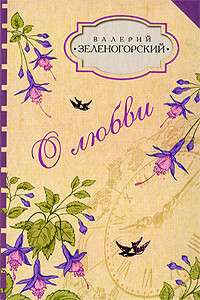В лесу было накурено | страница 52
Москвичей он не любил по двум причинам: его не взяли в Академию тыла, а он мечтал о лампасах, а девушка, с которой он познакомился на набережной в Анапе, пренебрегла им в пользу какого-то штатского, неспособного сделать подъем переворотом, и отказала прописать его к себе на Полянке, сука рваная.
Мне пришлось терпеть за все его жизненные неурядицы и нести его крест на своей некрепкой спине.
Я работал у него по совместительству, к основной работе писаря я убирал у него в кабинете и топил печку. Особой его страстью было стричь ногти на всех конечностях, сморкаться на пол и плевать во все стороны. Меня воротило от его чистоплотности. Однажды я сказал, что срезанные им копыта могут стать добычей ведьм, и он учел, стал использовать газету «Красная звезда» и сжигать в печке свои рудиментарные остатки.
Меня он демонстративно не уважал, задавал мне вопросы по философии и географии, отвечать разрешал только по уставу, то есть «Так точно» и «Никак нет». Выходил, конечно, занятный диспут. Он радовался и показывал меня сослуживцам как дрессированного гамадрила.
Для жены и дочери он демонстрировал номер «Солдат ищет на карте мира город Каракас и не может его найти» — в силу масштаба этот город обозначался звездочкой, а в сноске на его карте этот кусок был оторван.
Жена его вела в младших классах домоводство и считалась в гарнизоне широко образованной. В Доме офицеров она по вечерам руководила кружком макраме, и ее за глаза звали Славой Зайцевым за вкус и исполинские размеры тела.
Дочь, студентка ростовского педа, мной брезговала, как мелким грызуном, ей нравились водители из штаба округа, молодые гусары на черных «Волгах», в хромовых сапогах и в х/б, обтягивающем ляжки. Они цокали ей вслед, и она летела мимо них, как Орнелла Мути в объятия Челентано. Папа ее предупредил, что зарубит любого «челентано», и она терпела, маскируя пудрой свои прыщи.
Полковник семью любил, жену боялся, но, преодолевая страх, через меня передавал записки старшему сержанту секретной части, уже не девушке Светлане, редкой обезьяне, с носом, отдельно стоящим на лице, как маяк на водной глади. Нос ее был так велик и горбат, что когда она входила в помещение, сначала появлялся клюв, а потом уже гордая черная птица с погонами старшего сержанта.
Охотников до ее прелестей даже в армии было немного, но мой отец-командир что-то разглядел в этом черном лебеде и заставил меня писать ей стихи. Я с ним торговался, требуя для вдохновения тушенку, иногда удавалось вырвать сгущенку, но только в особые дни — 8 Марта и на Пасху.