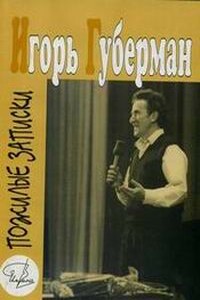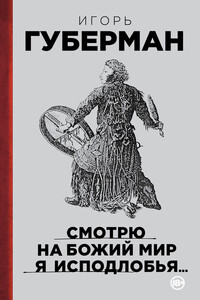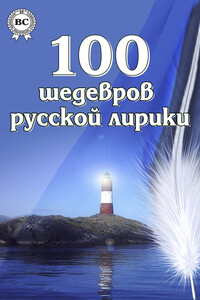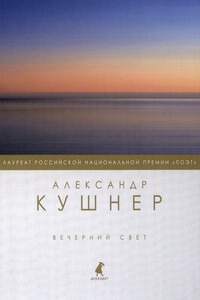Я раб у собственной свободы… | страница 26
и в каждой бабе было нечто.
Судьба моя полностью взвешена:
и возраст висит за спиной,
и спит на плече моем женщина,
и дети сопят за стеной.
Дивный возраст маячит вдали —
когда выцветет все, о чем думали,
когда утром нигде не болит,
будет значить, что мы уже умерли.
Мой разум не пронзает небосвод,
я им не воспаряю, а тружусь,
но я гораздо меньший идиот,
чем выгляжу и нежели кажусь.
В нас что ни год – увы, старик, увы,
темнее и тесней ума палата,
и волосы уходят с головы,
как крысы с обреченного фрегата.
Уж холод пронизал нас до костей,
и нет былого жара у дыхания,
а пламя угасающих страстей
свирепей молодого полыхания.
Весенние ликующие воды
поют, если вовлечься и прильнуть,
про дикую гармонию природы,
и знать о нас не знающей ничуть.
С кем нынче вечер скоротать,
чтоб утром не было противно?
С одной тоска, другая – блядь,
а третья – слишком интенсивна.
Изведав быстрых дней течение,
я не скрываю опыт мой:
ученье – свет, а неучение —
уменье пользоваться тьмой.
Я жизнь свою организую,
как врач болезнь стерилизует,
с порога на хуй адресую
всех, кто меня организует.
Увижу бабу, дрогнет сердце,
но хладнокровен, словно сплю;
я стал буквальным страстотерпцем,
поскольку страстный, но терплю.
Душа отпылала, погасла,
состарилась, влезла в халат,
но ей, как и прежде, неясно,
что делать и кто виноват.
Не в том беда, что серебро
струится в бороде,
а в том беда, что бес в ребро
не тычется нигде.
Наружу круто выставив иголки,
укрыто провожу остатки дней;
душе милы и ласточки, и волки,
но мерзостно обилие свиней.
Жизнь, как вода, в песок течет,
последний близок путь почета,
осталось лет наперечет
и баб нетронутых – без счета.
Успех любимцам платит пенсии,
но я не числюсь в их числе,
я неудачник по профессии
и мастер в этом ремесле.
Я внешне полон сил еще покуда,
а внутренне – готовый инвалид;
душа моя – печальный предрассудок —
хотя не существует, а болит.
Служа, я жил бы много хуже,
чем сочинит любой фантаст,
я совместим душой со службой,
как с лесбиянкой – педераст.
Скудею день за днем. Слабеет пламень;
тускнеет и сужается окно;
с души сползает в печень грузный камень,
и в уксус превращается вино.
Теперь я стар – к чему стенания?!
Хожу к несведущим врачам
и обо мне воспоминания
жене диктую по ночам.
Я так ослаб и полинял,
я столь стремглав душой нищаю,
что Божий храм внутри меня
уже со страхом посещаю.
Полувек мой процокал стремительно,
как аллюр скакового коня,