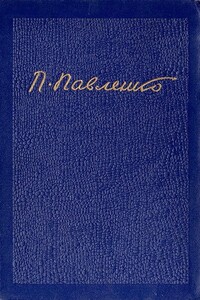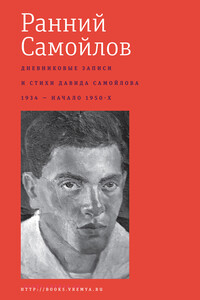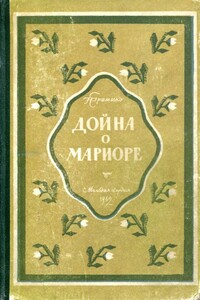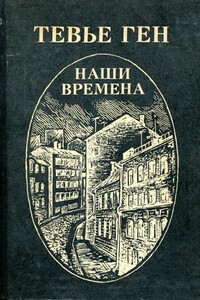Собрание сочинений. Том 6 | страница 54
В том же 1185 году Игорь новгород-северский, позвав с собою брата Всеволода из Трубчевска, племянника Святослава Олеговича из Рыльска и сына своего Владимира из Путивля, решил «копье преломить в конце поля Половецкого» и предпринял новый поход.
На реке Сююрлий — повидимому, нынешней Каменке — русские встретили первые отряды половецких стрелков, напали на них, разбили и, преследуя, далеко углубились в степи. На другой день, в субботу, половецкие орды начали наступать, как боры сосновые — в бесчисленном множестве.
Началась решительная битва. Игорь был ранен, сражался без шлема. В воскресенье дрогнули и побежали черниговские коуи (оседлые кочевники), дружины смешались. Игорь пытался остановить черниговцев, но не был ими узнан и — раненый — вернулся на поле боя, где еще дрались храбрейшие. Бой кончился поражением русских дружин; князья были ранены и взяты в плен. Неудача смелого Игоря, уже однажды бившего половцев и любимого народом за храбрость, отозвалась глубоким горем на Русской земле. Половцы подняли голову — Кончак овладел Римовым, хан Кза пожег окрестности Путивля.
Святослав киевский собрал князей и выступил к Каневу, но половцы, прослышав, что вся Русская земля идет на них, отошли за Дон. Святослав и князья разошлись по домам. Половцы в ответ бросились на Переяславль.
Перед княжествами грозно встала задача скорейшего объединения своих сил для обороны Руси.
В те великие и страшные годы и появилось «Слово о полку Игореве». Безвестный автор «Слова» взял своей темой самый трагический из всех боевых походов эпохи — поход Игоря, чтобы рассказать о Русской земле, о ее страданиях и бедах. Это был стон о ее единстве, призыв к ее объединению.
Поэме о героической неудаче Игорева похода суждено было стать бессмертной поэмой русской славы и русской доблести.
Великий поэт, имени которого мы не знаем, создатель первой книги художественного документального исторического повествования, предстоит пред нами — потомками — в темной дали семи с половиной веков, как богатырь политической мудрости и поэзии.
Повидимому, дружинник, во всяком случае не князь и не монах, не придворный певец, но человек, на своей спине испытавший боевые напасти, он открывает поэму, как полемист, идя наперекор традициям старой песни, основанной на Бояновых «замышлениях», и противопоставляет им героическую хронику своих дней.
Не «замышления», но быль кладет он в основу песни, как бы декларируя этим жизненную правдивость своего повествования, и затем с необычайной поэтической силой и смелостью поет о Руси, возводя политический манифест в поэзию высокого напряжения, открывая перед русским искусством великую дорогу единства политики и поэзии.