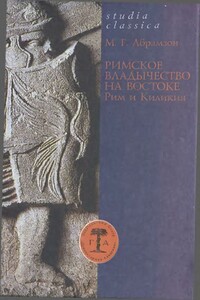Войны Рима в Испании, 154–133 гг. до н.э. | страница 70
Теперь с еще большей силой разгорелась та война, которую современники Полибия называли «огненной войной» par excellence: «Так необычны были ход этой войны и непрерывность самих сражений. Действительно, в Элладе и Азии ведомые войны кончаются, можно сказать, одной, редко двумя битвами, и самые битвы решаются одним моментом первого набега или схваткой воюющих. В войне с кельтиберами все было наоборот. Обыкновенно только ночь полагала конец битве, ибо люди старались не поддаваться усталости, не падали духом, не слабели телом, но всегда с новой отвагой шли на врага и опять начинали битву. Зима не только не прерывала войны в ее целом, она едва ли даже нарушала последовательность открытых сражении» (XXXV, 1, 2-5. — Пер. Ф. Г. Мищенко). Почти не вызывает сомнений, что Полибий излагал эти соображения в связи с началом войны в 154/153 г. Также почти бесспорно и то, что вспыхнувшая в 143 г. война полностью подтвердила справедливость сказанного, что, впрочем, было очевидно уже в связи с боевыми действиями, охватившими Дальнюю Испанию начиная со 148 г.[173]
Когда в 144 г. одержал свои победы Фабий, римляне решили доверить ведение войны против кельтиберов одному из консулов 143 г. На этот год консулами были избраны две весьма своенравные личности, патриций Аппий Клавдий Пульхр>{209}, впоследствии тесть Гая Гракха, и Квинт Цецилий Метелл>{210}, после подавления восстания Андриска заслуживший прозвище Македонского. Несмотря на эти славные деяния, Метелл был нелюбим народом за свою суровость и дважды терпел неудачу при домогательстве консулата (Auct. de vir. ill., 61,3). Можно уверенно предположить, что Метелл при своих полководческих дарованиях и опыте охотно взялся за дело. Мы знаем, что Аппий Клавдий всеми способами стремился обрести военную славу (Oros., V, 4, 7). И нам также известно, что консулы получили свои провинции по жребию, причем Аппию Клавдию досталась в качестве таковой Италия (Dio Cass., XXII, 74)[174]. Отправка сурового воина Метелла диктовалась отнюдь не соображениями государственного порядка. То же можно сказать и об Аппии Клавдии, который не снискал славы во время спровоцированной им войны с альпийским племенем салассов (Dio Cass., XXII, 74; Oros., V, 4, 7) и мог теперь стать наместником Ближней Испании. Но дело не только в соперничестве обоих консулов: Метелл находился в состоянии острой вражды (inimicitia) с другими представителями нобилитета. Мы знаем об этом в отношении Сципиона Эмилиана (Plut. Apopht. Caec. Met., 3; Val. Max., IV, 1, 12; Cic. De rep., I, 31; Brut., 81; Lael., 77; De off., I, 87) и близко стоявшего к нему Луция Фурия Фила (Dio Cass., fr. 82; Val. Max., III, 7, 5), так же как и консула 141 г. Квинта Помпея (Val. Max., VIII, 5, 1; Cic. Pro Font., 23; Dio Cass., fr. 82). Тем не менее Метеллу удалось получить в свое распоряжение значительные военные силы (Арр. Iber., 76, 322), соединив набранные им в Италии войска с теми, которые стояли в Испании (в 140 г. срок их службы достиг уже шести лет — 78, 334), войсками претора предыдущего года Гая Нигидия. О строгости Метелла свидетельствует тот факт, что он заставил своего собственного сына служить в центурии, хотя имел право держать его в своем окружении (Frontin., IV, 1, 11). О событиях первого года войны известно немного; действия Метелла против кельтиберов упоминаются как в целом удачные у Евтропия (IV, 16) и Иоанна Антиохийского (FHG, IV, 538, fr. 60). Кентобригу, город, чье местоположение точно не известно, но, бесспорно, находившийся в Ближней Кельтиберии