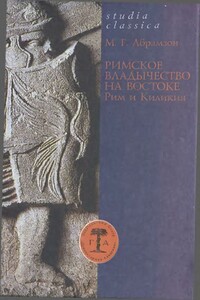Войны Рима в Испании, 154–133 гг. до н.э. | страница 10
Но дело не только в военной истории. На русском языке совсем немного книг по истории Римской республики II в. Специально ей посвящены лишь труды Н. Н. Трухиной и Т. А. Бобровниковой (см. примеч. 4 и 43), причем вторая из этих работ не лишена элементов беллетризации и отличается откровенной тенденциозностью. Между тем в монографии Г. Симона отражены не только военные события, но и перипетии политической борьбы в Риме середины II в., тесно связанные с испанским конфликтом. При этом автор активно использовал просопографический метод, позволяющий лучше понять связи между различными представителями и целыми группировками римского нобилитета, а стало быть, и характер внутриполитической борьбы.
Ценность книги Г. Симона не только в реконструкции хода событий, но и в ряде интересных гипотез, которые он высказывает по ходу повествования. Так, заслуживает внимания его предположение о том, что во время своих операций в Лузитании Лукулл не просто принудил к капитуляции крупный отряд лузитан, но обманул его какими-то гарантиями, видимо, пообещав отпустить всех после выдачи оружия. Это делает картину римско-лузитанской войны еще более выразительной, особенно если вспомнить об аналогичных действиях Гальбы примерно в то же самое время. Не менее любопытна гипотеза ученого о том, что прибывшие с Квинтом Помпеем сенаторы были членами сенатской комиссии десяти, которые обычно вводили соответствующие порядки на покоренных территориях. Нельзя не признать остроумным и тот вывод автора, что Сципион Эмилиан, несмотря на беспощадную муштровку своей армии, так и не добился соответствующего уровня выучки, коль скоро и дальше продолжал уклоняться от боев: больших потерь при огромном численном перевесе бояться не приходилось, а думать, будто он заботился о солдатах, которых сам же откровенно презирал, вряд ли правильно. Очевидно, Сципион просто желал, чтобы новые возможные неудачи не подорвали дух воинов, и лучшей тактикой было избегать всяких схваток с опасным врагом. В то же время автор, как правило, избегает обобщений — либо он не успел их сделать из-за своей преждевременной кончины, либо предоставил это читателю (sapienti sat!). Поэтому мы позволили себе в начале предисловия подробнее остановиться на ряде вопросов, которые не нашли должного освещения в тексте монографии.