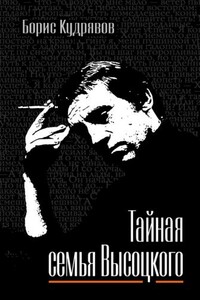Жизнь Бальзака | страница 154
Он, правда, спешил добавить, что сам он не настолько испорчен: «Я постоянно делаю колоссальный объем работы. Мои оргии принимают вид книг».
Урывая иногда всего по два часа сна по ночам, он пытался навести мост через «зияющую бездну». Те «жалкие истории», которые он до сих пор издавал, в его воображении превращались в трамплин для большого шедевра – «философского» романа, который, наряду с «Собором Парижской Богоматери» Виктора Гюго, станет литературным событием 1831 г.: «Шагреневая кожа» (La Peau de Chagrin)>431. Статьи, которые он вот уже больше года писал для газет, постепенно складывались в нечто, способное с бо́льшим успехом остаться в памяти читателей: «Письма из Парижа» представят его рупором легитимистов и заложат основы его собственной политической карьеры. А его светская жизнь постепенно все больше напоминала игру в прятки. Его письма полны отказов и героических жалоб на то, что он никогда не наслаждался излишествами, которые описывает в своих рассказах. Такова была сила воображения: постоянный источник вдохновения для писателя и разочарования для читателя. «Многие женщины, читавшие “Физиологию брака”, не обрадуются, узнав, что автор молод, педантичен, как старый конторский клерк, серьезен, как инвалид на диете. Он трезвенник и усердный труженик».
Это самоотречение, в предисловии к «Шагреневой коже», намеренно было достаточно неубедительным и подкрепляло образ романа, созданного распутным богемным персонажем с эзотерическими устремлениями, для кого «распутство для тела – то же, что мистические удовольствия – для души»>432. Бальзак всегда чрезвычайно наслаждался славой. Слава позволяла ему смаковать удовольствие, недоступное неизвестным писателям – путешествовать инкогнито, – и вести себя на публике как персонаж из романа. Впрочем, у него появится также и повод пожалеть о все более «автономном» существовании его образа, как позже, в 1839 г., когда появилась знаменитая карикатура: неопрятный субъект в монашеской рясе сидит, развалясь, в кресле. По одну его сторону – бутылка шампанского, по другую – женщина легкого поведения, в которой без труда можно узнать его будущую жену. Самая неправдоподобная деталь карикатуры – трубка в руке писателя>433. По этому случаю Бальзак подал на газету в суд>434, но в каком-то смысле он проявил неблагодарность. Относительная доверчивость читающей публики в новом мире массовой коммуникации позволила ему быть в центре внимания, завернув свое истинное «я» в плащи и костюмы. Как ни парадоксально, распространение фальшивых Бальзаков как будто усиливало его простодушие. Его трехчастное нападение на литературный, политический и общественный мир Июльской монархии прикрывает глубокую слаженность его действий начиная с 1830 г., а также героическое противоречие в самой их сердцевине. Противоречие, на которое намекает тот факт, что символ самоограничения Бальзака – монашеская ряса, которую он надевал, когда писал, – часто фигурирует в списках его долгов.