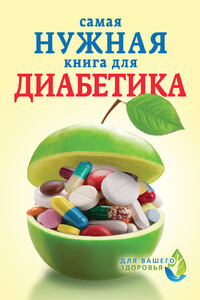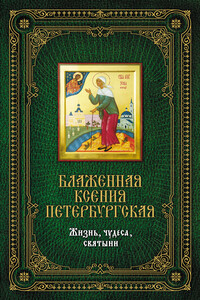Выпускное сочинение. Пишем на отлично. С примерами и образцами | страница 49
Та же «святая вольность» появляется (наверное, не сама появляется, а описывается, становится главной темой и так далее) в стихотворении «К Чаадаеву». Лишь свобода может зажечь сердца. И герой (лирический герой!) искренне верит в «звезду пленительного счастья», но лишь вольность может дать (лучше – подарить) это счастье. Теперь уже обязательным условием воцарения свободы становятся «обломки самовластья». Если в оде «Вольность» лирический герой был прежде всего наблюдателем, то в стихотворении «К Чаадаеву» он сам готов отречься от «любви, надежды, тихой славы», заменив их, может быть, на чувства патриотизма и любви к Отечеству (речевая ошибка: патриотизм и любовь к отечеству – это одно и то же). (Следовало бы написать о том, что в тексте Пушкина любовь к родине уподобляется любви к женщине.)
К вольнолюбивой лирике относится и стихотворение «Деревня». Оно условно разделено на две совершенно разные (не совсем точно – части стихотворения противопоставлены и в то же время соотнесены) части. Природа, познание истины, свобода души противопоставляются «Невежества убийственному Позору», Рабству. И опять у лирического героя Пушкина «в груди… горит жар», а главным врагом Свободы вновь становится Рабство. Но «Деревня», в отличие от стихотворения «К Чаадаеву», заканчивается вопросом. Лирический герой уже не уверен в том, «взойдет ли, наконец, прекрасная Заря». И если раньше самодержавие свергалось (свергать самодержавие стихами нельзя, можно призывать к его свержению!), то теперь поэт восклицает: «Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный и Рабство, падшее по манию царя».
Совершенно меняется настроение героя в стихотворении «Свободы сеятель пустынный…». В том, что он боролся против рабства, лирический герой видит теперь лишь потерянное время. «Я вышел рано, до звезды», – говорит он, понимая, что страна (неточность: не страна, а народ) еще не готова к свободе, еще не взошла «звезда пленительного счастья». «К чему стадам дары свободы?» Таким образом, лирический герой видит народ безвольным стадом, не желающим проснуться от «чести клича». И то, что ранее поэту казалось возмутительным, ужасным, теперь становится вполне закономерным (речевая ошибка: не закономерным, а понятным).
И наконец, одно из самых последних стихотворений Пушкина на тему свободы – «Из Пиндемонти». (Очень грубая содержательная ошибка, лишающая автора шансов на хорошую отметку: ничего не сказано о верности идеалам декабризма, провозглашенной в стихотворениях «Арион» и «Во глубине сибирских руд…», а также о философском осмыслении соотношения деспотизма и рабства в стихотворении «Анчар».) Теперь то, что ценится большинством (может быть, лучше сказать – многими, вспомнив хотя бы стихотворение «Свободы сеятель пустынный…») людей, героя совершенно не волнует. Он отвергает (точнее – не ценит) систему ценностей других, а вводит свою, подготовленную (точнее – сформулированную или выработанную) еще в стихотворении «Деревня». Сперва он учится «не завидовать судьбе злодея иль глупца – в величии неправом». А потом (лучше употребить наречие позже) говорит: «Не дорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова…» На первом месте оказываются независимость и свобода (следует добавить – духовная или внутренняя), необходимые герою. Для него особенно важна гармония внутри себя самого. Он не желает зависеть ни от царя, ни от народа.