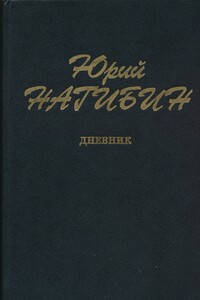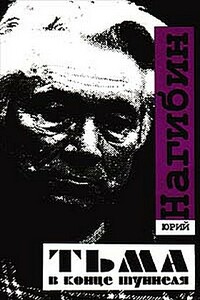Один на один | страница 25
Солнце зашло, но еще долго будет меркнуть за окнами сперва золотистый, а потом прозрачно-синеватый свет, прежде чем вечер зажжет звезды, и все дневное исчезнет, и возникнет другой Мигель, какой — неизвестно, и, может быть, этот другой Мигель кинется все-таки разыскивать Аду, чтобы, найдя, не подойти к ней, а может быть, помчится на машине в горы, рискуя сломать шею, может, позовет гитаристов из соседней деревни и будет петь с ними всю ночь напролет, во всяком случае, он выйдет из той прострации, в какую впал из-за внезапного отъезда жены, видения Ады и нахлынувших мыслей.
Про себя он знал, что и жена, в которую все еще был влюблен, и Ада, не переставшая его волновать, были знаками какой то иной тоски, иных утрат. Когда поселилась в нем эта тоска? Порой ему казалось, что она всегда с ним. В памяти вырисовывался живой, смелый, на редкость любознательный мальчишка, заводила всяческих проделок, порой довольно опасных, у которого просто не было времени для грусти. Затем — предприимчивый и честолюбивый молодой человек, нацеленный на одно; стать первым матадором своего времени. Вот тогда отец сказал ему: создай свой стиль на арене и в жизни. Мигель знал, как идет грусть к его серьезному, чуть удлиненному лицу с большими черными глазами, и, весь исполненный молодых, кипящих трепещущих сил, напустил на себя загадочную печаль. Когда же он стал зрелым мужем, гордо и спокойна сознающим совершенство обретенной формы, то вдруг обнаружил, что печаль, которую он поселил в глазах, в ранних морщинах высокого лба и уголках губ, пробралась к нему внутрь. Печаль, или, вернее, странная тоска, словно он узрел на миг то единственное, чего жаждет его душа, и потерял, не успев коснуться. И когда он понял, что тоска его истинна, хоть и непостижима, то захотел скрыть ее от окружающих, но это оказалось ему не по силам. Он знал, что многие считают его притворой и позером. Но знал также, что Клиф, называя его «смесью Дон Жуана с Гамлетом», не вкладывает в прозвище насмешки. Ом никогда и никому не говорил о своей тоске, ставшей невыносимой, когда он ушел с арены. Но однажды, не выдержав, он открылся отцу, единственному человеку, которому доверял до конца. «А женщины тебе не помогают?» — спросил старик. «Помогают, когда я влюблен, но это же не может длиться бесконечно». — «Влюбляйся почаще, сынок, но все-таки быки надежней». Он оценил совет и вернулся в цирк. Не из-за денег, как болтали одни, — ему своих некуда девать, не из тщеславия, как утверждали другие, — он ничего ее выгадывал для славы и репутации, мог лишь потерять. Но когда он выходил на арену и делал свою филигранную работу, ему было хорошо. В перерывах между выступлениями тоска тихо дремала, в нем, но кончался сезон, затихал праздник, смолкала музыка, рассеивалась толпа и далеко не всегда за воротами его поджидала новая любовь. Время замедляло бег, день становился огромен и трудноодолим, как крутой подъем, который никуда не ведет, и он шептал с меланхолической улыбкой: «Ну, входи!» И тоска входила, и он почти радовался ей, потому что это ведь тоже заполнение пустоты. Дела на ферме, по дому и саду, новые для него семейные заботы не заполняли пустоты. А между ним и женой слишком быстро появился третий — очаровательный мальчишка, черноглазый и черноволосый; он родился в шапке крепких волнистых бергаминовских волос и забрал всю любовь матери. То, что рассеянно уделялось из остатков мужу, унижало его гордость…