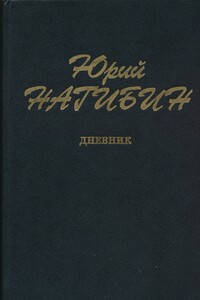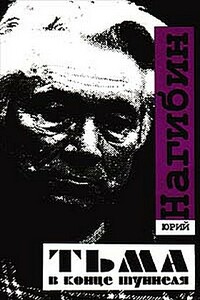Машинистка живет на шестом этаже | страница 27
Вдруг молния рассекла небо, и покатились с грохотом деревянные шары грома. Первые капли слезят стекла окон, за ними вдогонку бегут другие, стучат, разбиваются с разбегу… Но вот сквозь дымную пелену прорезался луч. Ни грома, ни молний, и дождь на исходе. Распахнул окно, оттуда нездешняя сумасшедшая свежесть! Радуга обвила небо девичьей лентой. Солнце греет глаза, грудь распирает надеждой…
Нет, не променяю мое сегодня на милое, тухлое детство в старом Петербурге. Зимний вечер, окно, занесенное снегом, извозчик, фонарь. А вверху — черный колпак чухонского неба в бисере звезд. О тесный, обманчивый мир Андерсена и братьев Гримм… Дремучий лес, Красная шапочка и бабка с пилою зубов…
Лев Толстой, умирая, пальцем писал по одеялу. Неужели не сохранили эту — самую подлинную из его рукописей?
Врубеля в летний июньский день в черной, прогретой солнцем карете увезли в сумасшедший дом. Там большие зеленые мухи бьются о стекла окон, за окнами сад, где на жестких скамейках — «испанская знать» в колпаках и халатах.
Карету мне, карету… «скорой помощи»!..
Чехов тревожит душу.
Достоевский — дух.
Картина Дега. Упрямые, давно умершие танцовщицы, окутанные дымкой юбочек, прочно стоят на полупальцах. Сияет старинный паркет. За широким окном лежит давно умерший белый зимний пейзаж старого Парижа.
Тишина, чистота, безнадежность.
К «Фаусту» написали музыку, его поют.
К «Братьям Карамазовым» музыки не напишешь.
Россия и Запад.
Тютчев не мог простить природе равнодушия к человеку: сотворила и забыла.
Утомительный, назойливый пафос. Не литература — а партитура. Ромену Роллану очень мешает музыка.
Я очень люблю тихую, ясную жизнь.
Я очень люблю грозную литературу.
Обыкновенные сюжетики: вдовушка, чья-то женитьба, родители художника… А ведь страшнее «Гибели Помпеи» и «Медного змия». Вот она какова — «нервная система» Федотова.
Старая горилла глядит на меня сквозь чащу седых бровей. В глазах — тяжкая обида живого предка, не вышедшего «в люди».
Всего-то горстка — мои «сочинения», спички довольно, чтобы ушли дымом… Прощайте, милые, может, и встретимся… дымами. И уж тогда про себя каждый: «Боже мой, да где же видались?» И хлынут слезы, и смокнет дым мокрой сединой грязи.
Погасла рождественская елка, и пошел от нее дымок — тоненький, тяжкий, точно в церкви. И уходим мы в детскую — гуськом, грустные, и долго не можем заснуть. В темноте сочится седой свет луны в промерзшее, отяжелевшее стекло. Детство совсем не счастливое, оно очень грустное. У всех. Его называют счастливым за чистоту грусти.