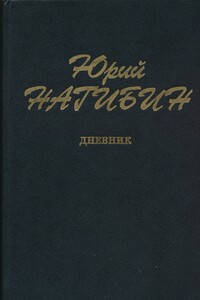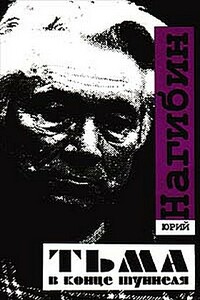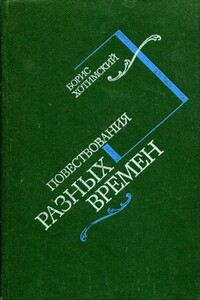Смерть на вокзале | страница 6
Преодолевать себя приходилось постоянно, в большом и в малом. Он всегда присутствовал на воскресной молитве в гимназической церкви, даже когда очередной приступ атаковал сердце. Он держал свечу в правой руке, и ни разу не удалось подловить острым, пронырливым, всевидящим глазам гимназистов, чтобы дрогнула свеча в бледной директорской руке, колебнулось копьецо пламени. Так недвижимо выстаивал он полтора часа, душных, страшных полтора часа, и тень спартанского юноши, которому лисица выгрызла внутренности, витала перед затуманенным взором.
А может быть, я все же сильный человек? — думал Анненский, разглядывая в зеркале свое большое, просторное лицо с тяжеловатым носом, пристальными, печальными глазами и пухлым ртом, не способным упрятать свою мягкость и доброту под густыми, воинственно закрученными кверху усами. Черт возьми, вся сильная, четкая лепка лица сводилась на нет этим розовым губошлепьем. Но ведь мой рот свидетельствует скорее о деликатности и доброте, нежели о безволии и слабости, уверял он себя. Иннокентию Федоровичу нужно было сейчас верить в свою силу, ведь и Гёте и Толстой, знавшие о человеке больше всех остальных жителей земли, считали, что болезнь кладет на лопатки лишь слабых, безвольных и распущенных.
И все же он не решил до конца, поедет ли на курсы. Оставил себе маленькую лазейку, но эту лазейку, сама того не желая, закрыла жена.
Она перехватила его в передней, где он топтался возле вешалки, не зная, что надеть: теплую ли шинель на вате или легкое демисезонное пальто, калоши или глубокие ботики, меховой пирожок или мягкую шляпу, а по существу, все еще раздумывая, ехать в Петербург или остаться дома и лечь в постель.
— Ох, не надо бы тебе ехать, — сказала жена, зябко кутаясь в пуховый оренбургский платок, хотя в доме было тепло, даже жарко от хорошо натопленных калориферных печей. — Ты скверно выглядишь.
Давно уже между ними существовал лишь контакт привычки, утреннего чаепития, обеденного стола и семейных ритуальных жестов, лишенных при внешней сердечности какого-либо содержания. Иннокентий Федорович сперва грустно, затем твердо-равнодушно уверился, что жена то ли не посмела, то ли не захотела последовать за ним туда, где дуют черные ветры, и жестко отвергал всякие с ее стороны попытки коснуться его навсегда отделившегося существования. Жена не постигала его хрупкой и вместе выносливой сути, следовательно, не могла знать, что ему вредно, а что полезно. И если она говорила: останься, то правильней было ехать. К тому же в мозгу ясно вспыхнул сонм молодых горячих девичьих лиц, внимательных серых, голубых, карих и черных глаз, румянцем опаленных щек, на него повеяло ароматом юности, доверчивости, наивной влюбленности, и все это было куда лучшим лекарством для его больного сердца, нежели пахучие микстуры, компрессы, вялые домашние заботы и появление глупого, самоуверенного, пропахшего трубочным табаком немца-врача, которого он по Достоевскому называл Генценштубе, хотя звался тот как-то коротко — Шульц или Штольц.