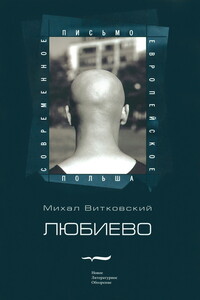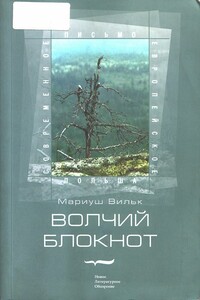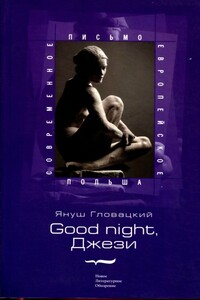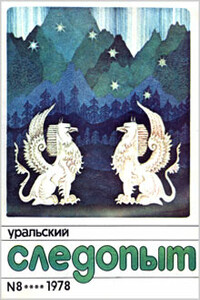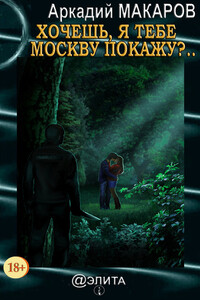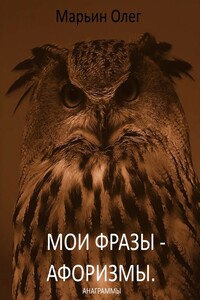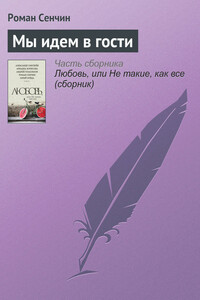Безвозвратно утраченная леворукость | страница 32
Сказки, в общем-то, тоже были ничего, но по сравнению с библейскими чудесами, о которых рассказывала Марточка, выглядели бледновато. С одной стороны, между воскрешением дочки Иаира или, скажем, Лазаря и воскресением Белоснежки просматривалась явная сюжетная перекличка. Но, с другой стороны, образ восстающего из гроба после четырех дней, смердящего и обвитого погребальными пеленами брата Марии и Марфы из Вифании, умершего к тому же будто по заказу Иисуса, который тянет с излечением больного (эта болезнь не к смерти, — говорит он торопящим его ученикам и лишь через два дня спешит придать полный блеск своему божественному искусству, чтобы уже не больного к здоровью, но мертвого к жизни возвратить), так вот, образ этот, эта последовательность образов, хоть и не показанная на экране, — а может, именно поэтому, — была бесконечно более драматичной. Ведь одно дело Иисус, осознающий свое всесилие и затяжкой времени достигающий эффекта небывалого напряжения, одно дело разлагающийся и, казалось бы, уже не подлежащий спасению труп в могильной пещере, и совсем другое — мультяшная спящая красавица в похожем на хрустальную ванну голливудском гробу.
Мы с Ежиком, несмотря на свой щенячий возраст, жаждали настоящих мужских переживаний, чудес из плоти и крови. Когда пьяный вусмерть киномеханик Пильх (до самоубийства ему оставалось три года) в алкогольном угаре пускал полнометражные сюжеты, когда на экране появлялись люди из плоти и крови — библейские рассказы из воскресной школы начинали оживать. И дело вовсе не в том, что мы представляли себе, например, Адама и Еву в заманчивой телесной оболочке Берта Ланкастера и Джины Лоллобриджиды. То есть, конечно, мы именно так их себе и представляли, хотя лично у меня эти представления проходили разные стадии, особенно видоизменялась праматерь Ева: поначалу она была действительно похожа на Джину Лоллобриджиду («Фанфан-Тюльпан»), потом на Клаудию Кардинале («Картуш»), пока в конце концов не остановилась на Еве Барток («Кармазинный пират» — тут, видимо, имело особое значение совпадение имен).
Однако не в образе было дело, а в душе. Не только искушенные в Писании лютеране знают, что в Книге Бытия (остановлюсь на этом примере, потому что, как я уже говорил, Марточка Законоучительница была особенно сильна в рассказах о сотворении мира и вообще в Ветхом Завете; сцены из Евангелия, разумеется, тоже шли неплохо, но, похоже, великая беззаветность веры парализовала в свое время ее повествовательные способности. По-настоящему эпического масштаба она достигала, рассказывая о Книгах Моисея), так вот, не только искушенные в Писании лютеране знают, что в Книге Бытия нет ни слова о любви между Адамом и Евой. Они, конечно, и выбора-то особого не имели, а любовь, у которой нет выбора, как правило, трудна, но даже об этой потенциально трудной любви в Библии нет и речи Сначала был Он, Адам, потом Она (в раю безымянная), потом они были вместе, сохраняя невинность, потом отведали запретный плод и невинность утратили, однако утрата невинности не привела к обретению любовного знания (напротив, они начали стыдиться — а любовники ведь не стыдятся), потом оказались изгнаны из рая, потом, как сказано в главе 4 Книги Бытия, «Адам познал Еву», и это все. Итого ноль чувств.