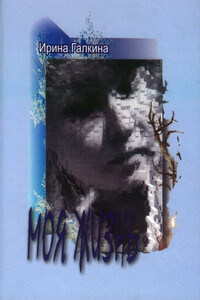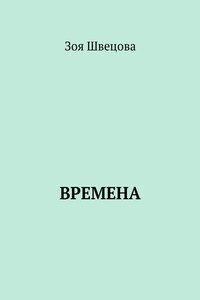Белла Ахмадулина | страница 35
Смысл заточён в гранит и утаён —
укрытье смысла наблюдатель видит.
Но осязает чуткая рука
ответный пульс слежавшихся энергий,
и стиснутые, спёртые века́
теплы и внятны коже многонервной.
Как пусто это сказано: века́.
Непостижимость силясь опровергнуть,
в глубь тайны прянет вглядчивость зрачка —
и слепо расшибется о поверхность.
Миг бытия вмещается в зазор
меж камнем и ладонью. Ты теряешь
его в честь камня. Твой недвижен взор,
и голос чайки душераздирающ.
Воздвигнув на заглавном валуне
свой штрих непрочный над пустыней бледной,
я думаю: на память обо мне
останется мой камень заповедный.
Но – то ль Кронштадт меня в залив сманил,
то ль сам слизнул беспечный смех залива —
я в нём. Над унижением моим
белеет чайка стройно и брезгливо.
Бывает день, когда смешливость уст —
занятье дня, забывшего про вечность.
Я отрясаю мокрость и смеюсь.
Родную бренность не пора ль проведать?
Оскальзываюсь, вспять гряды иду,
оглядываюсь на воды далёкость.
И в камне, замыкающем гряду,
оттиснута мгновенья мимолётность.
III
Как я люблю – гряду или строку,
камней иль слов – не разберу спросонок.
Цвет ночи, подступающей к окну,
пустой страницей на столе срисован.
Глаз дня прикрыт – мгновенье ока: тьма —
и снова зряч. Жизнь лакомств сокрушая,
гром дятла грянул в честь житья-бытья.
Ночь возвращает зренью долг Кронштадта.
Его объём над плосководьем волн —
как белый профиль дымчатой камеи.
Из ряда прочих видимостей вон
он выступил, приемля поклоненье…
Как я люблю гряду… – но я смеюсь:
тону в строке, как в мелкости прибрежной.
Пытается последней мглы моллюск
спастись в затворе раковины нежной.
Но сумрак вскрыт, разъят, прёодолён
сверканьем, – словно, к ужасу владельца,
заветный отворили медальон,
чтоб в хрупкое сокровище вглядеться.
И я из тех, кто пожелал глядеть.
Сон был моей случайною ошибкой.
Всё утро, весь пред-белонощный день
залив я озираю беззащитный.
Он – содержанье мысли и окна.
Но в полночь просит: – Не смотри, не надо!
Так – нагота лица утомлена,
зачитана сторонней волей взгляда.
Пока залив беспомощно простёр
все прихоти свои, все поведенья,
я знаю, ка́к гнетёт его присмотр:
сама – зевак законные владенья.
Что – я! Как нам залив не расплескать?
Паломники его рассветной рани
стекаются с припасами пластмасс
и беспородной рукотворной дряни.
День выходной: день – выход на разбой.
Поруганы застенчивые дюны,
и побирушкой роется прибой
в останках жалкой и отравной дури.
Печальный звук воздымлен на устах
залива: – Всё тревожишь, всё неволишь.
Что мне они! Хоть ты меня оставь.
Книги, похожие на Белла Ахмадулина