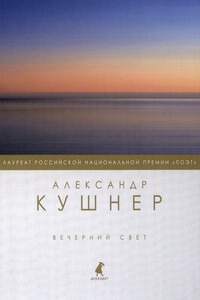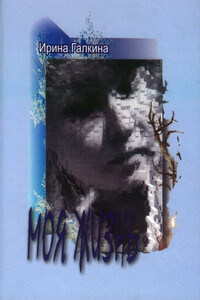Белла Ахмадулина | страница 28
надежду на близость Пасхальной недели.
В Алексин иль в Серпухов двинется если
какой-нибудь странник и после вернётся,
к нам тайная весть донесётся: Воскресе!
– Воистину! – скажем. Так всё обойдётся.
Апрель 1983
Таруса
Цветений очерёдность
Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
весь розовый, сошёл. Но, чтобы не соврать,
добавлю: в нём была глубокая помарка —
то мраком исходил Ладыжинский овраг.
Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта
счастливые слова оврагу удались,
явился и сказал, что медуница эта
пришла в обгон не столь проворных медуниц.
Я долго на неё смотрела с обожаньем.
Кто милому цветку хвалы не воздавал
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
он совершенно синь, но он лилов и ал.
Что медунице люб соблазн зари ненастной
над Паршином, когда в нём завтра ждут дождя,
заметил и словарь, назвав ее «неясной»:
окрест, а не на нас глядит её душа.
Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
И вот уже прострел, забрав себе права
глагола своего, не промахнулся – вырос
для цели забытья, ведь это – сон-трава.
А далее пошло: пролесники, пролески,
и ветреницы хлад и поцелуйный яд —
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
отравленные ей, уста благословят.
Так провожала я цветений очерёдность,
но знала: главный хмель покуда не почат.
Два года я ждала ладыжинских черёмух.
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?
На этот раз весна испытывать терпенья
не стала – все долги с разбегу раздала,
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля —
черёмуха по всей округе расцвела.
То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —
и разум повреждён движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но – дрёма, но – истома,
и я не объяснюсь с растеньем роковым.
Зачем мне так грустны черёмухи наитья?
Дыхание её под утро я приму
за вкрадчивый привет от важного событья,
с чьим именем играть возбранено перу.
5–8 мая 1983
Таруса
«Быть по сему: оставьте мне…»
Быть по сему: оставьте мне
закат вот этот за-калужский,
и этот лютик золотушный,
и этот город захолустный
пучины схлынувшей на дне.
Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии внятные останки,
и как бы у ее изнанки
мы все нечаянно в гостях.
В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабры жадные трудились,
и обитала нелюдимость
вот здесь, где площадь и киоск.
Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.
Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.
Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
Книги, похожие на Белла Ахмадулина