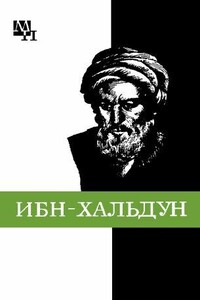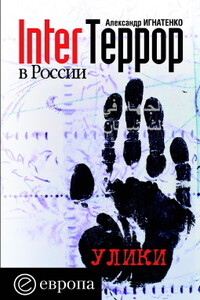Зеркало ислама | страница 25
Приведу последний пример метафорического использования Зеркала. Относительно поздно (в XIII в.) у Сибта Ибн-аль-Джавзи в назидательном произведении «Сокровище владык, или О том, как себя вести» мы находим, что автор неоднократно и по разным поводам обращается к Зеркалу. Во-первых, мнение, которое высказывает человек по какому-то вопросу, является «зеркалом [его] ума». И если ты хочешь узнать, насколько человек умен, то спроси у него совета>40. У Ибн-аль-Джавзи сам разум оказывается Зеркалом, в котором отпечатываются {тантаби‘} образы (формы) реальностей/истин {сувар, ед.ч. сура; хака’ик, ед. ч. хакика; хава}. А страсть оказывается ржавчиной, которая покрывает разум>41. Наконец, есть у Ибн-аль-Джавзи та метафора, которая сформировалась достаточно поздно. «Зрение [людей] – зеркала, в которых отражаются видимые формы {сувар мушахадат}, если оно (зрение. – А.И.) не попорчено ржавчиной немощи. Так же и сердца – зеркала, в которых отражаются некие сокрытые вещи [Божественного мира {га’ибат}], если они (сердца. – А.И.) не поражены ржавчиной сомнений»>42. В последнем случае речь идет о том, что Бог может открыть {мукашафа} людям с чистыми сердцами Сокрытое некие Божественные истины, которые недоступны органам чувств человека и его разуму. Все эти метафоры и сравнения даются без указания источника – говорят, что. И в этом виде – это общие места всей исламской мысли. Система метафор, восходящих к Зеркалу, сформировалась.
В заключение этого раздела рассмотрим употребление Зеркала в аллегориях. Если метафора представляет собой в принципе перенос названия, т. е. внешне, по форме является неким оперированием словами, то аллегория – более сложная конструкция, в основе которой лежит манипулирование зрительным образом, воплощенным в рисунке или ином изображении (например, статуе) [В этом отношении большой интерес представляет, например, имеющееся в иной культуре – иранской (после воздействия на нее ислама) описание у Низами и изображение на миниатюрах-иллюстрациях (XIV–XVII вв.) семи красавиц, являющихся сложными аллегориями – кешваров (районов мира), астральных душ персидского царя Бахрама Гура и т. д. См.: Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV вв. С. 290–337.]. Если даже аллегория и выражается словесно, то это всегда описание некоего