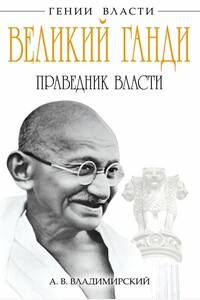Распутин. Правда о «Святом Чорте» | страница 57
Наконец, оторвав ее руки от своей шеи, он отбросил ее со всего размаху в угол и, весь красный, взъерошенный, задыхаясь от злости, крикнул: «Всегда до греха доведешь, сила окаянная! паскуда!»
Тяжело дыша, Лохтина добралась до кушетки, около которой упала и, помахав руками, окутанными цветными вуалями, звонко выкрикнула: «А все-е же ты мо-ой!! и я к те-бе прило-жи-и-лась!! И я-а к тебе при-и-ло-жи-ла-сь. Бо-ог ты мо-ой! Кто-о бы не сто-о-ял ме-е-жду на-а-ми, а я к тебе при-и-ло-жусь!! И я зна-а-ю. Ты ме-е-ня лю-и-бишь!» – «Ненавижу я тебя, сволочь! – быстро и решительно возразил Р. – Вот перед всеми говорю: ненавижу я тебя, не только что люблю – бес в тебе. Убил бы я тебя, всю морду избил!» – «А я счаст-ли-и-ва! счаст-ли-и-ва-и все же ты меня-лю-и-бишь! – запела Лохтина, подпрыгивая на одном месте и трепеща цветными тряпками и лентами. – И я к те-е-бе опять при-и-ло-жусь!» Мгновенно подбежав к Р., она обхватила его голову и с теми же дикими сладострастными криками принялась целовать его, неистово крича и выкликая. «А ты дьявол!» – в бешенстве завопил Р. и ударил ее так, что она отлетела к стене, но сейчас же, вскочив на ноги, Лохтина опять закричала исступленно: «Ну, бей, бей! бей!!» Все выше, выше поднимался голос, и такое блаженство было в нем и в этих протянутых худых руках, что невольно становилось как-то жутко: а вдруг все это уже перестало быть действительностью, потому что в здравом уме и твердой памяти нельзя присутствовать на подобном бедламе, зная, что это не сумасшедший дом, но тогда что же это такое?
Наклоняя голову, Лохтина старалась поцеловать то место на груди, куда ее ударил Р., и, видя, что это невозможно, подскакивала и рычала, с отчаянием целуя воздух громкими жадными поцелуями, била себя ладонями по груди и целовала эти ладони, извиваясь в сладострастном экстазе. Она напоминала какую-то страшную жрицу, беспощадную в своем гневе и обожании.
Понемногу ее возбуждение стало стихать. Отойдя к кушетке, она легла на нее и закрылась вуалями. Я внимательно смотрела на нее: наряд ее был невероятен – вся она была обвешана плиссированными юбками всевозможных цветов, думаю, их было не меньше десяти, мне пришло в голову, как по-дурацки должен себя чувствовать человек, если только он вправду не сошел еще с ума, обвешиваясь всем этим костюмом, и я чуть не расхохоталась. Юбки эти от ее быстрых нервных движений кружились и развевались вокруг нее, как гигантские крылья, разлетались вуали (их было столько же, сколько юбок) по обеим сторонам головы, на которой была надета волчья собирская шапка Р. (как я потом узнала от Муни), с прикрепленными к ней пучками разноцветных лент. Поверх надетой на Лохт. красной русской рубашки Р. висели на ремнях мешочки, наполненные разным хламом и остатками еды Р.: половинками обкусанных огурцов, яблок, баранок, ломтей хлеба, костями рыб, кусками сахара, старыми пуговицами, обрывками лоскутов, записочками. На ремнях же висело несколько пар его старых рукавиц. На шее Лохтиной, словно цепи, свисали разноцветные ряды четок, гремевших при каждом ее движении. На руках ее были неуклюжие мужские перчатки, которые она потом скинула. Ноги были обуты в старые огромные сапоги, вероятно, те самые, в которых он «тридцать лет искал Бога по земле». Лицо ее трудно было разглядеть под двойным венчиком вроде тех, которые кладут на покойников, и сквозь вуали виден был только скорбный изящный рот, обезображенный несколькими выбитыми зубами, наверно, самим же Р.