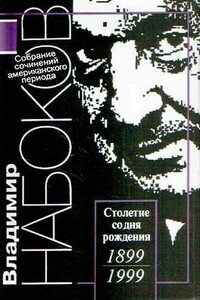Под знаком незаконнорожденных | страница 99
Долгие летние дни. Ольга играет на пианино. Музыка, порядок.
Вся беда Круга в том, думал Круг, что долгие летние годы и с огромным успехом он старательно разбирал на части чужие системы и приобрел по этой причине славу обладателя шаловливого чувства юмора и прелестного здравого смысла, тогда как на самом деле он был большим и печальным боровом и весь его «здравый смысл» сводился к постепенному копанию ямы, достаточной, чтобы упрятать в нее смешливое сумасшествие самой чистой воды.
Его постоянно называли одним из самых видных философов нашего времени, однако он понимал, что никто, в сущности, не смог бы определить, каковы отличительные черты его философии, или что означает «видный», или что такое в точности «наше время», или же кто такие остальные достойные именитости. И когда иноземных писателей именовали его учениками, он ни единого разу не смог отыскать в их писаниях и отдаленного сходства со стилем или складом мышления, приписанными ему критиками без его на то согласия, так что он в конце концов начал считать себя (здоровенного, грубого Круга) иллюзией или, скорее, держателем акций иллюзии, высоко оцененной большим числом культурных людей (с изрядным вкраплением полукультурных). Нечто похожее поневоле случается в романах, когда автор заодно с поддакивающими персонажами принимается уверять, что герой его «великий художник» или «великий поэт», не представляя, впрочем, никаких доказательств (репродукций картин, образчиков поэзии); на самом-то деле принимая меры, чтобы не предоставить таких доказательств, потому что любой предъявленный образец наверняка обманет фантазии и ожиданья читателя. Круг, не переставая гадать, кто же его так раздул, кто спроецировал его на экраны славы, не мог избавиться от чувства, что в каком-то странном смысле он того заслужил, что он действительно крупнее и умнее большинства окружающих; но понимал при этом: то, что люди, не сознавая того, в нем находят, является, быть может, не чудесным распространением позитивной материи, но родом беззвучно застывшего взрыва (будто бобину остановили там, где разрывается бомба) с несколькими обломками, изящно подвешенными в воздухе.
Когда разум такого типа, столь пригодный для «творческого разрушения», говорит себе, как мог бы сказать всякий сбившийся с толку философ (о, это помятое неуютное «я», шахматный Мефистофель, упрятанный в cogito!): «Вот, я расчистил почву, теперь начинаю строить, и боги древней философии не смогут мне помешать», результат обыкновенно сводится к кучке холодных трюизмов, выуженных из искусственного озерца, куда их нарочно запустили для этой именно цели. То, что надеялся выудить Круг, было чем-то не просто принадлежащим к неописанным видам, родам, семейству, отряду, но чем-то представляющим новый с иголочки класс.